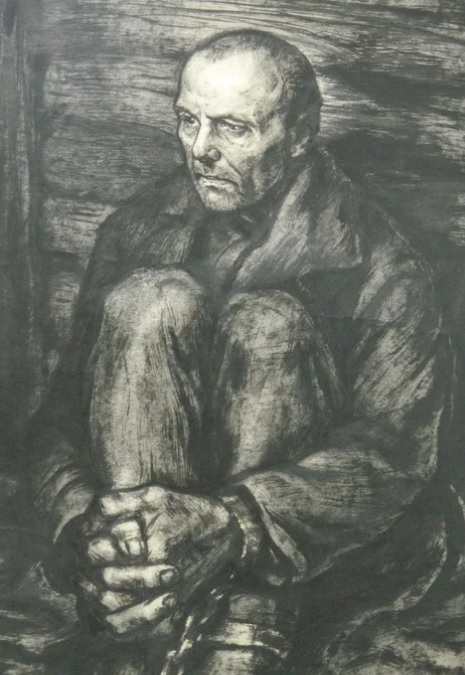Взаимоотношения между декабристами, «старожилами сибирскими», как называл их И. И. Пущин, и петрашевцами, оказавшимися на каторге в Сибири в 1850 г., отражают путь развития, который прошло русское освободительное движение за четверть века.
Идейными учителями петрашевцев были Белинский и Герцен с их революционно-демократической и материалистической идеологией. Но выдающуюся роль в формировании мировоззрения петрашевцев сыграли также освободительные идеи и самый подвиг декабристов. Петрашевцы стремились знать о декабристах все, что можно было знать в тогдашних условиях.
В деле петрашевцев встречаются, например, указания на то, что Д. Д. Ахшарумову было известно предсмертное письмо С. И. Муравьева-Апостола к брату, ходившее по рукам в списках (Ахшарумов ошибочно называет его письмом Рылеева). Ахшарумов написал «сожаление о смерти» казненного декабриста; оно «оканчивается дерзким рассуждением в нескольких строках насчет смертного приговора» над ним1. В бумагах Н. А. Момбелли был обнаружен его перевод стихотворения Мицкевича «К друзьям русским»2 — стихотворения, посвященного декабристам. Упоминания о приговоре над декабристами неоднократно встречаются в показаниях Петрашевского.
Петрашевцам были, несомненно, известны рассказы людей, которые лично встречались с декабристами. К кругу декабристов принадлежал отец Н. С. Кашкина. Офицер Д. И. Кропотов, посещавший собрания петрашевцев, лично знал Рылеева, о котором впоследствии написал воспоминания3.
В деле петрашевцев встречается имя одного из сыновей декабриста М. А. Фонвизина — Дмитрия4. Петрашевцы живо интересовались не только прошлой деятельностью, но и современными взглядами ссыльных декабристов и расспрашивали «об их образе мыслей» приехавшего из Сибири золотопромышленника Черносвитова.
«Случалось говорить мне, — показывал привлеченный к следствию Черносвитов,— о государственных преступниках в Сибири, сосланных по 14 декабря, их вообще в Сибири называют декабристами; главные вопросы были об их образе мыслей, и постоянный ответ мой был, что они все теперь уже старики и жалеют о прошедшем»5.
Расспрашивая Черносвитова, петрашевцы, конечно, пытались выяснить, способны ли декабристы воспринять новые революционные идеи. Спешнев на следствии показал, что, по словам Черносвитова, «все сосланные „глупы", что они на той точке и остались, как были, что о фурьеризме и социализме и слышать не хотят»6.
Петрашевцы критически относились к своим предшественникам. Идеология тех из петрашевцев, которые принадлежали к радикальному крылу кружка и представляли складывавшееся революционно-демократическое направление, характеризовалась новым отношением к народу, как к творцу истории и решающей силе в революционных переворотах. Петрашевцы осуждали политическую тактику декабристов, действовавших в отрыве от народных масс.
Суждение Петрашевского о декабристах дошло до нас только в изложении полицейского агента Антонелли, который своими вопросами заставил Петрашевского высказаться. Несмотря на специфический характер этого источника, не приходится сомневаться, что Антонелли в основном правильно передал слова Петрашевского. В ответ на замечание Антонелли, что «заговорщики 14 декабря поступили очень опрометчиво, приведя свои замыслы в исполнение, не приготовив сперва всех средств к обеспечению своего успеха», Петрашевский объяснил; «заговор 14 декабря не мог никаким образом иметь успеха, потому что главная его цель была известна только очень малому числу действующих лиц, между тем как другие действовали наобум; что этот заговор и лица, в нем участвовавшие, были уже известны правительству и их и без того ожидало наказание, оттого они и действовали по поговорке — авось лихая вывезет, и, наконец, случай к исполнению представился такой соблазнительный, что можно было даже и при недостаточности средств надеяться на успех. Но для верного успеха подобного рода предприятий должно, чтобы распоряжающиеся лица старались сперва преодолевать самые малые препятствия, иметь всегда успех в самых, с первого взгляда незначительных, обстоятельствах, и таким образом приобретая мало-помалу доверие и вну¬шая всем и всякому необходимость нового порядка вещей — они могут надеяться на самый верный, самый блистательный успех <...>. Хотя правительство обладает всеми средствами поставить преграды подобного рода успехам, — говорил далее Петрашевский, — но <...> масса всегда против правительства и <...> сверх того, когда этой массой будут распоряжаться люди, которые убеждены в своих мнениях и имеют полное доверие и друг к другу и к своим действиям, то правительство никакими средствами не в состоянии будет остановить общего потока и необходимо должно будет покориться новому порядку вещей. Но что, главное, не нужно спешить, но должно действовать осторожно, исподволь, и все полагать на время»7.
Некоторым из декабристов была вполне ясна разница между их собственными идейными позициями и идейными позициями петрашевцев. «Социализм, коммунизм, фурьеризм, — замечает Н. Д. Фонвизина, — были совершенно новыми явлениями для прежних либералов и они дико как-то смотрели на новые жертвы новых идей». В письме к Н. Д. Фонвизиной от 18 апреля 1850 г. И. Д. Якушкин дал, однако, иную оценку социализма, указывающую на признание им ценности этого учения: «Вы глубоко правы, считая, что в социализме нет ничего нового, но то, что составляет его ценность, то, что в высшей степени истинно, истинно уже давно»8. Но это не помешало декабристам увидеть в каторжанах-петрашевцах своих единомышленников, продолжавших борьбу против самодержавия, начатую ими. Определеннее всех по этому поводу высказался тот же Якушкин: «Вот и в наше время все эти люди, которых называют сосиалистами, коммюнистами и так далее, несмотря на нелепые учреждения, предлагаемые ими взамен существующих учреждений тепереш¬них обществ, оказали и оказывают положительную услугу человечеству, смело выступая против пошлых предрассудков, принимаемых их противниками за истину, потому только, что эти пошлые предрассудки облекают правом их своекорыстие. Сосиалисты по уму и по сердцу молодежь, к усилиям которой я не могу не сочувствовать, это застрельщики, может быть и не всегда достойные той святой рати, которой все подвигается вперед за святое дело»9.
Чрезвычайно показательна дружба Петрашевского с декабристом Д. И. Завалишиным. Дружеские отношения между этими двумя деятелями выходили за пределы личных и были основаны на единстве позиций, занятых ими в общественной борьбе в Сибири. Выступления Завалишина в печати с критикой сибирских административных порядков вызывали горячее одобрение Петрашевского, который, в свою очередь, находил у Завалишина неизменную поддержку в своей стойкой борьбе против всевластия бесконтрольной и особенно хищной сибирской бюрократии. Петрашевский писал Завалишину в 1860 г.: «Мои личные, материальные и нравственные интересы требуют того же, чего требует благо общественное, разумно понимаемые интересы всей страны, положить законом пределы для безумного самовластительства сибирских пашей и сатрапов»10.
Вновь найденные документы освещают первую встречу двух поколений русских революционеров в Сибири и товарищескую поддержку, оказанную декабристами своим младшим братьям11. Ценность этих документов тем значительнее, что они весьма немногочисленны12.
По конфирмации, объявленной петрашевцам на Семеновском плацу 22 декабря 1849 г. после совершения обряда смертной казни, пять человек из девяти — Петрашевский, Спешнев, Момбелли, Григорьев и Львов — были сосланы в рудники; Достоевский и Дуров сосланы на каторжные работы в Омскую крепость, а Толль и Ястржембский отправлены на заводы Сибири.
Первым, прямо с места казни, был отправлен в Сибирь Петрашевский; 24 декабря отправлены двумя группами — Спешнев, Григорьев, Львов, Толль и Достоевский, Дуров, Ястржембский. Последним, 12 января 1850 г., уехал Момбелли, задержавшийся в Петербурге из-за болезни. Путь их лежал на Тобольск, откуда их должны были распределить по назначенным пунктам.
Декабристы к этому времени давно жили на поселении. Следует отметить, что условия, в которых приходилось отбывать каторгу петрашевцам, сильно разнились от условий, в которых в свое время отбывали каторгу декабристы13. Петрашевцы оказались в общеуголовной тюрьме, не пользовались никакими привилегиями, многие из них были лишены какой бы то ни было материальной поддержки. Понятно, что братская помощь со стороны декабристов-поселенцев имела для них большое значение.
Ценным свидетельством братского отношения декабристов к младшему поколению политических каторжан является письмо Е. П. Оболенского к брату его, К. П. Оболенскому, написанное из Ялуторовска 8 января 1850 г., то есть в те дни, когда петрашевцы прибыли в Тобольск. Декабристы в Сибири уже знали о процессе петрашевцев. Как ни стеснена была цензурой их переписка, но вести с родины шли непрерывным потоком либо с оказиями, либо почтой — на имя друзей и знакомых из местной сибирской интеллигенции. Удавалось декабристам обходить цензуру и во взаимной переписке. Об этом свидетельствует и данное письмо. Оболенский пишет здесь о своем близком родственнике, двадцатилетнем Н. С. Кашкине, но готовность помочь новым осужденным, проявлялась декабристами по отношению к петрашевцам и помимо родственных связей.
«Теперь поговорим с тобою насчет нашего Сергея Кашкина14,— пишет Е. П. Оболенский. — Я имел уже известие об участи его сына Николеньки от Пущина, который в Иркутске виделся с одним из его товарищей, сосланным туда на службу, кажется без лишения чинов. По его словам, Николай был секретарем Общества и был призван государем, и довольно смело отвечал на сделанные ему вопросы. Теперь остается знать, какой участи он будет подвержен15. Петрушевский с товарищем уже в Тобольске. Их привез фельдъегерь в простой арестантской одежде — и кажется, велено им идти в партии до Нерчинских рудников, — и особенное иметь за ними наблюдение. По словам Петрушевского, осужденных в Нерчинск всех 9-ть человек: он назвал трех, но в числе их Кашкина нет. По словам Лобанова16, переданным Пущиным, наш Николай осужден на трехлетнее заключение в крепости, а оттуда, без сомнения, — на Кавказ солдатом. Но так как это известие подлежит еще сомнению, и притом Николай был секретарем Общества, то немудрено, что он может отправиться в Нерчинск в числе девяти. В последнем случае передай Сергею, что он будет снабжен в Тобольске и деньгами, и всем нужным. Я таким образом распоряжусь, чтобы наши дали ему все, что будет возможно, — счеты же ты сведешь с Сергеем, а Наташа передаст мне тем путем, который она знает. Везде — по пространству всей Сибири, начиная от Тобольска, — в Томске, Красноярске, в Иркутске и далее, за Байкалом, — он найдет наших, которые все, без исключения, будут ему помощниками и делом и словом <...> Если Николаю суждено быть в Нерчинске, то пусть Сергей пишет прямо к Катерине Ивановне Трубецкой: лишь только я узнаю, что Николай в Тобольске, я сейчас сообщусь с Восточною Сибирью, и его везде встретят, как родного»17.
В Тобольске петрашевцы пробыли около недели. Именно здесь и была оказана им помощь, обещанная Оболенским.
Известно письмо Достоевского к брату от 22 февраля 1854 г., в котором он вспоминает свое пребывание в Тобольске в 1850 г. и встречи с женами декабристов: «... ссыльные старого времени (т. е. не они, а жены их) заботились об нас, как о родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением. Мы видели их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылали нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас»18. Петрашевцы многие месяцы пробыли в крепости, в одиночестве, — и впечатление участия, дружбы, душевной близости, оставленное тобольскими встречами, было, очевидно, так сильно, что Достоевский много лет спустя неоднократно возвращался к этим встречам в своих произведениях19.
В архиве Фонвизиных сохранился замечательный документ — письмо жены декабриста М. А. Фонвизина, Натальи Дмитриевны, написанное ею из Тобольска 18 мая 1850 г. к И. А. Фонвизину, брату декабриста.
Из письма видно, что декабристы оказали всяческую помощь петрашевцам, что они вступили в сношения со смотрителем тюрьмы и другим персоналом заранее и окружили прибывших всевозможными заботами.
«Пишу вам с верною оказиею, друг мой братец, а потому могу обо всем откровенно беседовать», — начинает Н. Д. Фонвизина.
«...Недавно случилось мне сойтись со многими страдальцами, совершенно как бы чуждыми мне по духу и убеждениям моим сердечным. Признаюсь, что я даже не искала с ними сближения. Другие из наших и Мichel20 приняли деятельное участие в их бедствиях. Снабдили всем нужным — и сношения сначала этим только и ограничились. Между тем они были предубеждены против всех нас и не хотели даже принимать от нас помощи, многие, лишенные всего, считали несчастьем быть нам обязанными. Социализм, коммунизм, фурьеризм были совершенно новым явлением для прежних либералов и они дико как-то смотрели на новые жертвы новых идей. Между тем говорили о доставлении тайно денег главному из них, Петрашевскому, который содержался всех строжее — доступ ко всем к ним был чрезвычайно труден. Я слушала все это равнодушно, даже, признаюсь, удивлялась своей холодности — и несколько упрекала себя, но как во мне ничего нет хорошего — собственно моего — то как нищая и успокоилась нищетою своею нравственною — негде взять и делать нечего — хлопоты и заботы других меня радовали. Обращаются ко мне с вопросом: нельзя ли мне попробовать дойти до бедного узника? Дом наш в двух шагах от острога. Не думавши много, я отвечаю: „Если считают нужным, попробую". Я даже не знала и не предполагала, как это сделать, — возвратись домой, на меня вдруг напала такая жалость, такая тоска о несчастном, так живо представилось мне его горькое, безотрадное положение, что я решилась подвергнуться всем возможным опасностям, лишь бы дойти до него. Взявши 20 р. сереб., я отыскала ладонку бисерную с мощей, зашила туда деньги и образок, привязала снурочек и согласила няню , не говоря никому, на другой день идти в острог к обедне и попытаться дойти до узников — так и сделали. У няни21 в остроге есть ее знакомый — воспитанник Талызина, к которому она иногда ходит. Мы послали арестанта позвать его в церковь — я посоветовалась с ним. — Смотритель и семейство его были уже в сношении с нашими по случаю передачи съестных припасов, белья и платья нужного. От начальства беспрерывные повторения строгого надзора. — Отправивши нянина знакомого для разведывания в больницу, где был Петрашев<ский>, я молилась и предалась на все изволения божий, самое желание видеть узников не иначе считая, как его внушением. Нянина знакомого зовут Кашкадамов — он возвратился, говоря, что можно попробовать дойти туда под видом раздачи милостыни. После обедни, как я запаслась мелкими деньгами, — не подавая виду, я объявила, что желаю раздать милостыню, и отправилась прямо в больницу. Боже мой, в каком ужасном положении нашла я несчастного! Весь опутан железом, больной, истощенный. Покуда няня раздавала милостыню, я надела на него ладонку с деньгами и обменялась несколькими словами. Если он поразил меня, то, узнав мое имя, и я его поразила. Он успел сказать мне многое, но такое, что сердце мое облилось кровью — я не смела показать ему моей скорби, чтобы она не казалась ему упреком... Он уже и так был в крайнем бедствии. Но насилу устояла на ногах от горя, несмотря на то, не знаю, откуда взялась у меня нравственная сила отвечать спокойно на вопросы его, и искренно — право, искренно — благодарить его за участие22...
Его пытали и самым ужасным новоизобретенным способом. Следы пытки на лице — 7 или 8мь пятнышек или как бы просверленных кружочков на лбу, одни уже подсыхали, другие еще болели, иные были окаймлены струпиками. Пальцы на правой руке и на той же руке полоса вдоль — как бы от обожжения. В холодной комнате на лбу беспрестанно проступала испарина крупными каплями, веки глаз по временам страшно трепетали, глаза расширялись. Он бледнел в это время, как полотно, и потом опять принимал обыкновенный вид свой — вся нервная система, как видно, потрясена была до основания. Его допрашивал сам г<осударь> посредством электрического телеграфа, из дворца проведенного в крепость, но в крепости к телеграфу была приделана гальваническая машина. Я полагаю, что его не то что пытали, но при допросах, как он сам рассказывал нам после, он отвечал довольно смело, не зная кто его спрашивает. Вопроситель, видно, рассердись, ударил по клавишам и ток машины внезапно поразил его, он упал без чувств, вероятно на какие-нибудь острые снаряды пришелся лбом — и вот от чего знаки на лбу и на руке. Он, очувствова<в>шись, очутился уже сидящим на стуле и поддерживаемый двумя — в отдалении от машины. —Tousles sens etaient surexcites [Все чувства были чрезмерно возбуждены (франц.)], — как он говорит, и ужасно томился жаждой. Ему подали стакан воды, но он заметил, что в воде что-то как бы распускается и струйками соединяется с водою — побоялся пить и при всех опустил в стакан пальцы и часть руки и вдруг почувствовал боль как от ожога. Вот какие дела! Бедный человек не может без трепета об этом говорить. При одном воспоминании ужасного ощущения он бледнеет, трясется и как бы входит в исступление. Ему кажется, что пагубный гальванический ток его и здесь преследует, уже мы его успокаивали, как могли. Что за страшные времена!23.
То, что сказал он мне при первой встрече моей с ним в больнице, относилось прямо ко мне, а не к нему, и поразило меня страшным горем. Но господь дал мне силы скрыть эту скорбь от бедного страдальца, который, несмотря на свои заблуждения, казался простодушным, как дитя. Фигурой и речью он напоминает покойника Никиту Мурав<ьева> — тон и манеры чрезвычайно любезны, и естественная доброта и чувствитель¬ность сердца так и проглядывают в неискусственной речи. Тем жалче мне было огорчить его. — От него вышла я сама себя не помня от жгучей и давящей сердце скорби и в сопровождении Кашкадамова отправилась в другие отделения для раздачи. Пришли в одну огромную удушливую и темную палату, наполненную народом; от стеснения воздуха и сырости пар валил, как вот от самовара, — напротив дверь с замком и при ней часовой. Покуда няня говорила с Кашкадам<овым>, у меня мелькнула мысль — я сунула ей деньги мелкие и, сказав, чтобы раздала, выскочила — и прямо к часовому: „Отвори, пожалуйста, я раздаю подаяние". Он взглянул на меня, вынул ключ и, к великому моему удивлению, отпер преравнодушно и впустил меня. Четверо молодых людей вскочили с нар. Я на¬звала себя и спросила об именах их — то были Спешнев, Григорьев, Львов и Толль. Спешнев прекрасный и преобразованный молодой человек. Григор[ьев] и Львов тоже премилые. Первый грустный и молчаливый, а второй живой, маленький и веселый. Толль претолстый молодой человек и по наружности кажется весьма ограниченным. Я уселась вместе сними и, смотря на эту бедную молодежь, слезы мои, долго сдержанные, прорвались наружу — я так заплакала, что и они смутились и принялись утешать меня. Но вот что странно — что они, узнав, что я от Петрашевского, догадались о моей скорби тотчас — и не принимая нисколько на свой счет, утешали меня в моем горе. Это взаимное сочувствие упростило сейчас наши сношения, и мы как давно знакомые разболтались. Часовой за благо рассудил запереть меня с ними, видя, что я долго не выхожу. Няня между тем, окончив свое дело, осталась с Кашкад<амовым> в сенях разговаривать. Мне так было ловко и хорошо с новыми знакомцами, что я забыла о времени. Между тем смена команды — и офицер новый. Часовой, ни слова не говоря, сдал ключ другому. Мы слышали шум и говор, но не обратили внимания — вдруг шум усилился, слышим, отпирают и входят дежурный офицер с жандармским капитаном. Няня так испугалась, что сделался понос — но подивитесь, что я не только не испугалась, но даже не сконфузилась и, привстав, поклонилась знакомому жандарму, назвав его по имени. Мне и мысли никакой не пришло о последствиях. Жандарм потерялся, стал расспрашивать о М<ихаила> Александровича) здоровье, я сказала, что была у обедни и зашла спросить у господ, не нужно ли им чего на дорогу. Он удивлялся, что я рано встаю, а я сказала, что как я встаю рано, то и поспеваю всюду — и, пошутив с ним, простилась с господами, сказав им до свиданья. Смольков, жандарм, говорил мне после, что моя смелость так его поразила, что он решился содействовать нам — и сдержал слово*.
*Этот жандарм всем остальным передал тайные деньги, вделанные в книги, и показал каждому, как доставать и как опять заклеивать. — Прим. Н. Д. Фонвизиной.
Ср. «Записки из мертвого дома», 1935, стр. 120: «Эту книгу с заклеенными в ней деньгами, подарили мне еще в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десятилетиями и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата».
Я было хотела и к последним пробраться, но было уже поздно. Возвратясь, отдала отчет в моем похождении Мишелю. Он, было, потревожился, но после благодарил бога, что все так устроилось. — После этого нам уже невозможно было не принимать живейшего участия во всех этих бедных людях и не считать их своими. Дамы наши явились ко мне узнать, удалось ли мне доставить деньги. Мы положили под вечер, переодевшись, в сопровождении няни ехать к смотрителю. — Офицер был из кадетов и предобрый юноша, тут же приехал один из служащих офицеров при строительной комиссии, короткий приятель Львову (теперь уже он покойный), и этот присоединился к нам в желании видеть узников. Смотритель и офицер согласились на нашу просьбу и сначала привели Петрашевского одного. Он был с нами довольно долго — мы его угощали, смотритель подчивал чаем. Он так сосредоточен в себе, что даже не замечает, что ест. Этого увели, привели 4-х, с которыми я сидела взаперти, их не приказано было сводить вместе с Петрашевским и с тремя остальными — нам стало жаль, что трое остальных как бы покинуты. Становилось поздно, и няня вздумала просить офицера, чтобы и остальных привели, не уводя еще этих. Тот взял на свой страх. Вдруг мы слышим звук цепей, все вскочили и, когда вошли, с криком бросились обнимать друг друга — описать вам восторга их при неожиданном свидании друг с другом невозможно. Мы все прослезились и даже смотритель. Им столько было сообщать друг другу, что мы оставили их на несколько времени и сами забились в уголок — с другом Львова. Поговорив и успокоившись, они бросились к нам с благодарностью, целовали нам платье, руки, как обрадованные дети. Один из последних троих, Дуров, 33 лет, растрогал меня своей ласковостью и чувствительностью, а няня просто рыдала. Ей представилось, что он как сын мой. Он сказал мне, что в семействе был нелюбим, что, может быть, он сам виною этому, но что мать предпочитала ему сестер. Отец был строг к нему, был дядя — и тот умер. Мать тоже умерла. Сестры замужем, но не любят его, а двоюродный его брат Ростовцев24 судил и осудил его, и теперь у него решительно нет ни одной родной души. Он еще сказал мне, что он всегда помнил, как одна из наших дам, княгиня Волконская, маленького его ласкала, что это были единственные ласки, которые он помнит во время детства своего, и что он, узнав осуждение свое в Сибирь, ехал с надеждою встретить где-нибудь княгиню. — Мы уже знали, что он и Достоевский осуждены на крепостные работы в Омской крепости и с княгиней, поэтому, нет надежды ему свидеться. У меня мелькнула мысль, и я тут же сообщила ее ему — я предложила ему быть для него тем, чем была княгиня, выдать его за родственника, которого я помню маленьким, и таким образом быть ему сколько-нибудь полезной. Можете вообразить, с какою радостью и благодарностью принято мое предложение. Присутствующие точно удивлялись, что Д(уров> особенно как-то все со мною как старинный знакомый, и даже спросили об этом — тут же и объявили мы всем положенное между нами тайно. Теперь во всей Сибири, особенно в Тобольске и Омске, никто в нашем родстве с Дур<овым> не сомневается. Мишель, няня, да еще одна особа, а именно Маша Францева25, только в секрете, все прочие, даже из наших, принимают родство за чистые деньги. Перед зарей, т. е. когда вечером бьют зорю, мы возвратились домой, но я продолжала посещать племянника и мне уже не препятствовали,— все офицеры наперерыв давали свиданья не только с Дуровым), но и со всеми его товарищами. Жандармский капит<ан> предложил даже М<ихаилу> Александровичу) за рекою, при отправлении Дур<ова> и Достоев<ского>, иметь с ними свиданье, и мы ездили. Я жандармов: просила беречь дорогой господ. Мы в Омск писали и рекомендовали бедных друзей наших,— как в родственнике нашем, так и в товарище его многие теперь в Омске принимают участие, доставляют даже по време¬нам ему мои послания и от него ко мне. Я по целым часам в бытность их здесь с ними беседовала <...>
Простите, если наскучила вам длинным письмом, как расписалась! Последний из привезенных был Момбелли. Славный молодой человек, но болезненный.— М<ихаил>Александрович выезжал за реку с ним беседовать, а я на станцию. Он за болезнию был остановлен здесь на две недели, и я всякий день с ним виделась в острожной больнице <..>.
...Из Омска еще не имею ответа от княгини на Тункинские воды. Я и ей писала о Дурове, и она хлопотала. Осужденные на каторгу не работают, содержатся, как наши, в тюрьме в Акатуе — все пятеро вместе. Толль на заводе и Ястржембский в заводе же. Здешнее начальство, т. е. князь26, из трусости личной прескверно поступает с этими бедными, такие мелоч¬ные строгости, что из рук вон, а Муравьев27, напротив...»28
Когда петрашевцев увезли из Тобольска, по всему их пути им вслед полетели письма тобольских декабристов. Писали о них в Тобольск и декабристы из Ялуторовска, теснее других связанные с Тобольском.
Петрашевского, Спешнева, Львова, Григорьева и Момбелли везли в Иркутск, в Нерчинские заводы; Дурова и Достоевского — в Омский острог; Толля и Ястржембского — в Томск и Тару на заводы.
Петрашевский попытался отправить с дороги письмо к матери; оно было задержано и сохранилось в делах III Отделения. «Не буду гово¬рить, — писал Петрашевский,— что вытерпел я во время моего содержания в крепости — это превосходит всякое вероятие. То же не дай бог терпеть лихому татарину, что потерпел я проездом <не отдыхая> ни часу в течение 11-дневного пути с курьером из Петербурга в Тобольск. И дальнейшее странствие от Тобольска не сладко — а просто, мучительно»29.
24 февраля 1850 г. Петрашевский и его товарищи прибыли в Иркутск и сразу же были отправлены на заводы. Декабристы, поселенные вокруг Иркутска, считали своим естественным долгом о них позаботиться. Об этом свидетельствует письмо С. П. Трубецкого к И. И. Пущину от 7 июня 1850 г.; приводим ту часть письма, которая посвящена петрашевцам:
«Мы имели вести от Штубендорфа, который видел всех в заводах, и от к<н>. Лобанова, который видел Монбеля, Львова и Григорьева30. Последний совершенно уничтожен и телесно и нравственно, товарищи его избегли этого несчастья. Он, говорят, многого не помнит и делает иногда о себе вопросы, которые изумляют других. Вообще они трое в худшем против других положении. Перекрестов, начальник Кутомарского завода, кажется, человек без души и без сердца и сверх того, как слышно, и с правилами, которые вредят службе, и потому можно ожидать, что они скоро будут от него избавлены. Они ходят на работу и сами довольны тем, что она есть для них некоторое развлечение и средство дышать воздухом. Двое, которых я не назвал31, в Шилкинском заводе, и там, говорят, человек благородный Габриель32, который на днях произведен в подполковники. Там здоровье нравственное П(етрашевского) поправилось и он уже не заговаривается. Сообщил вам подробно все, что знаю. Мне Муханов сказывал, будто слышал, что зять ваш говорил о некоторой надежде для них на облегчение. Дай бог, иначе я боюсь, чтоб положение Григорьева на других не возымело влияния»33.
М. А. Фонвизин и жена его приняли особенное участие в Дурове и Достоевском, сосланным в Омскую крепость. Они использовали все свои связи, чтобы и в Омске быть полезными своим новым друзьям. Средних омских знакомых был священник А. И. Сулоцкий, прежде живший в Тобольске и Ялуторовске и близко сошедшийся там с декабристами. В архиве Фонвизиных сохранилось несколько писем Сулоцкого, посвященных сосланным в Омск петрашевцам. Эти письма — живая иллюстрация к «Запискам из мертвого дома»; в них мы встречаемся с плац-майором Кривцовым, который увековечен Достоевским. Приводим из писем Сулоцкого то, что относится непосредственно к Дурову и Достоевскому. Первое письмо адресовано М. А. Фонвизину и датировано 1 февраля 1850 г.
«Письма — Ваше и добрейшей Натальи Дмитриевны, — пишет Сулоцкий, — навели на меня такую печаль, что целый вечер, по прочтении их, я не мог ни делать ничего, ни говорить с домашними. Бедственная участь мечтателей, Ваши просьбы, которые, скажу прямо, для меня свя¬щенны, желание исполнить их и неимение ни малейшей к тому возможности, — вот что меня опечалило... Если бы письма Ваши пришли почтой раньше, я, может быть, по кр<айней> мере в день получения их, мечтал бы, был бы в удовольствии от мыслей, что авось мне и удастся исполнить Вашу просьбу и тем — хотя немного — отблагодарить за радушие, с каким Вы всегда принимали меня, за приятное и интересное препровождение с Вами во времена оны времени и пр. — был бы в удовольствии от мыслей и о том, что, наконец, я найду в этих несчастных и в Омске таких же умных собеседников и добрых людей, каких я имел в Тобольске и Ялуторовске, но теперь этих мыслей, этой мечты уже никак нельзя было иметь мне: добрый Ив<ан> Викентьич34, вследствие письма Марьи Дмитриевны35, тогда уже адресовался к разным лицам с распросами о возможности, о способах облегчить участь гг. Дурова и Достоевского. и ото всех, от иных и при мне, слыхал одно, т. е. что нет никаких к тому способов, особенно вначале, теперь<...> Но Вы скажете, что мой сан должен дать вход для меня в самые тюрьмы и остроги? Так, мы с Ив<аном> Викентьичем и ухватились было за это, но нам ответили, что входить к заключенным имеет право священник только местный, определенный к тому, а этим лицом в Омске от<ец> протопоп. По крайней мере, Вы спросите, нельзя ли чрез него чего-ниб<удь> сделать? На этот вопрос вот что скажут протоиерей Пономарев, несмотря на свою несчастную слабость, для Сергея Федоровича Дурова) и Достоевского мог бы быть тем же, чем был и есть в своем месте и для известных лиц Степан Яковлич36; но он до крайности обременен приходом (8000 душ) и разными должностями, — свободы решительно не имеет. Года за три он даже по часу и более почти в каждый воскресный и праздничный день пред литургией беседовал с арестантами; но ныне он это делает по распоряжению начальства в батальоне кантонистов. Впрочем, Дмитрий Сем<енович>37 обещался разведать чрез кого следует и можно, нельзя ли известным лицам, напр<имер> бывать у него, когда я приеду к нему или мне самому нельзя ли их в остроге посещать и пр. Думаю, что его старания не останутся вовсе бесплодными: плац-майор Кривцов у протопопа каждогодно выпивает, чай, не по одному ведру сивухи.— Моих хлопот доколе и только; но Ив<ан> Викентьич два раза был уже у коменданта, а этот, по слову Ивана Викентьича, являлся ко князю38 со спросом, как поступать со вновь присланными арестантами, можно ли чем-ниб<удь> отличать их от других, делать им кой-какие снисхождения (разумеется, ни о Вашей просьбе, ни о хлопотах Ив<ана> Викентьича тут не было упоминаемо),— и получил ответ: „по закону". Добрый Ив<ан> Викентьич хочет, наконец, обратиться прямо к плац-майору и просить его, чтобы он с теми господами по кр<айней> мере не обходился варварски. Что будет от его хлопот и моих чрез протопопа не знаю: Кривцов корчит роль превеликого монархиста, ругает и своих командиров, когда они обходятся ласково с политическими) преступниками, и обходится с ними зело не политично: присланного ныне осенью поляка, колл<ежского> советника, профессора химии, прежестоко высек лозами единственно за то, что тот,— когда Кривцов, смотря на его бороду, отрощенную в дороге, назвал его бро-дягой,—сказал: „Извините, мил<остивый> государь, я из политических) преступников, сослан за мнения, следовательно) бродягой называть меня нельзя". О Кривцове вот что скажу еще: еще на Кавказе в него спящего стрелял бывший в его команде донской казак; в Омске пред моим приездом один арестант сбил его с ног и порол ему горло нарочно отрощенным ногтем, да прошедшею осенью известный Сотников на говвахте тоже его колотил; наконец, за Кривцовым 16 дел! (Молчание! Достоевcкий с самого прибытия поступил в гошпиталь и пробудет там долго...)»39.
11 февраля 1850 г. Сулоцкий писал М. А. Фонвизину: «Письмо мое, по всей вероятности, опечалило Вас, добрую Наталью Дмитриевну и других, принимающих участие в горькой доле С<ергея> Федоровича) Дурова и его товарища. Но что же делать? Я бессилен, а плац-майор именно таков, каким я описал его. Не мудрено вовсе, что Кривцов обругал их40, — это совершенно в его духе; впрочем, в Омске об этом не слыхать, по крайней) мере до моего слуха не дошло еще.— Не будут для Вас хотя малым утешением следующие сведения, полученные мною от Ив<ана> Викентьича (он с неделю уже болен): г. Достоевский все в лазарете; главный лекарь Троицкий, по просьбе Ив<ана> Викентьича, толковал с ним, предлагал ему лучшую пищу, иногда и вино; но он отказывается от всего этого, а про¬сит только о том, чтобы принимать почаще в лазарет и помещать в сухой комнате <...> Г. Дурову поручено состоять при кузнице, действовать мехами и подкладывать уголья. Говорят, он рад этому, потому что, состоя при кузнице, удален от глаз зевак и что постоянно в сухом воздухе; но, по-моему, Кривцов едва ли не для насмешки это сделал. — Протопоп все еще не видался с Кривцовым: этот хотя и заходил несколько раз к нему, но его не было дома...»
Перевести в лазарет — это, по-видимому, в первое время после приезда Дурова и Достоевского в Омск, было единственным способом облегчить их участь. 15 февраля 1850 г. Сулоцкий писал Фонвизиным: «Сергей Федорович) мел уже улицы, получил флюс и теперь в лазарете. Он и г. Дог ст<оевский> очень благодарны, замечая, что главный лекарь принимает в них участие. Мы чрез Троицкого, наконец, добились позволения пере¬сылать им по кр<айней> ме<ре) книги св. Писания и духовные журналы — и я отправил ныне Псалтырь на р<усском> языке и „Хр<истианское> чтение" за 1828, где статьи о последних днях земной жизни Спасителя, и за 1847-ой. — Кривцов пред протопопом выказывает себя состраждущим к несчастным и обещает их отпускать к нему при всяком приглашении. Авось, хотя это и неизвестно, когда будет, и я увижусь».
Вероятно, в лазарет и из лазарета передавались не только книги, но и нелегальные письма, а иногда и стихи, которые писал Дуров. Это видно, в частности, из письма Сулоцкого от 31 мая 1850 г.: «...Стихи Сергея Федоровича), без всякого сомнения, у Вас уже и для Вас отрадны41. — Его я видел, даже перебросил с ним несколько слов; случай к этому был тот, что мне, за отсутствием протопопа, довелось приводить к присяге Троицкого и нек(оторых) других лекарей. — Г. Д<остоевско)го навещает, хотя изредка, товарищ его по корпусу Осипов42. Сергей Федорович) пожелал ознакомиться с историей р<усского> раскола и я отправил ему для этого книги. Вот всё, что теперь могу сказать об этом».
В письме от 18 августа 1850 г. к М. А. Фонвизину Сулоцкий пишет: «О страдальцах только я и знаю, что они почти постоянно в лазарете и что, когда живут тут, пользуются столом от главного лекаря Троицкого. Слышал я еще от протопопа, что и он виделся и беседовал с ними; причем Достоевский просил достать для него Историю и Древности Иудейские Иосифа Флавия. Но в Омске этой книги не оказалось. Не пришлет ли ее Степан Михайлыч?43 У него есть она на франц<узском> языке (из книг покойного Афанасия44).— Слава богу, что Ив<ан> Викентьич по своей доброте, ревности к добру и связям со многими достиг до возможности делать то, что теперь делается. Мне, при моей неловкости и при крайнем недостатке в порядочных знакомствах, никогда бы не достигнуть до подобных результатов».
Когда петрашевцы вышли на поселение, декабристы продолжали по¬могать им. Особую заботу о Ф. Г. Толле проявил Г. С. Батеньков, который обещал Пущину содействовать освобождению Толля с Керевского завода45. Толль не имел никаких средств к существованию; Батеньков поселил его у себя. Пущин писал Батенькову 23 июня 1852 г.: «Прекрасно сделали, что приютили Толля. По правде — это наше дело: мы, старожилы сибирские, должны новых конскриптов сколько-нибудь опекать, беда только в том, что не всех выдают. В Омске продолжается то же для них житье, хоть несколько помягче, после смены плац-майора Кривцова»46.
Пущин принимал близко к сердцу участь «новых конскриптов». После амнистии, находясь уже в России и узнав об указе 17 апреля 1857 г., — указе, который возвращал некоторым из петрашевцев права потомственного дворянства, — Пущин сообщил М. И. Муравьеву-Апостолу имена этих «девяти коммунистов»47.
Толль поддерживал дружеские связи со многими декабристами, с ко¬торыми он познакомился в Томске, а затем, позже, в Твери. Понимая, что общение со старым поколением революционеров имеет интерес исторический, Толль записал слышанные им от декабристов рассказы48.
Когда у Достоевского и Дурова кончился срок каторги, большую поддержку оказала им семья декабриста Анненкова. Перед тем как их отправили в Семипалатинск и Петропавловск солдатами в Сибирский корпус, Достоевский и Дуров провели в Омске, в доме зятя Анненковых К. И. Иванова, старшего адъютанта Отдельного сибирского корпуса, почти целый месяц. С горячей благодарностью вспоминает об Анненковых Достоевский в письме к П. Е. Анненковой из Семипалатинска от 18 октября 1855 г.49.
Ближе других Достоевскому была религиозно настроенная Н. Д. Фон¬визина; он продолжал переписку с ней и после отъезда Фонвизиных в Россию в 1853 г. Сохранился черновик письма Фонвизиной Достоевскому от 8 ноября 1853 г.— Наталья Дмитриевна выражала надежду на свидание с ним (очевидно, это был ответ на его письмо)50. Именно Н. Д. Фонвизиной писал Достоевский тотчас по выходе из Омского острога в феврале 1854 г., поверяя ей свои убеждения — «символ веры»51.
Дуров сохранил крепкую дружбу с семьей Фонвизиных-Пущиных52 на всю жизнь. Вернувшись в Россию, он подолгу жил в имении Фонвизиных Марьине, даже в отсутствие хозяев, на попечении старой няни53. Пущин с женой продолжали помогать ему и хлопотать за него. В письме к Пущину от 13 февраля 1858 г. из Одессы Дуров рассказывает о тяготах поднадзорного положения и просит свою названную «тетушку» хлопотать о снятии с него надзора.
«Вопрос, до меня лично касающийся, — писал он Пущину, иронически пользуясь терминами, широко распространенными в пору подготовки крестьянской реформы, — это также, в некотором роде, вопрос об улучшении быта, чтобы не сказать, освобождении. Что бы и как бы там ни было, но, кажется, годовая сиденка в равелине, четырехлетнее влачение кандалов в бесчеловечной каторге, двухлетняя солдатская лямка и, наконец, амнистия и возвращение дворянских прав могли бы, особенно в наше разумное и хваленое время, развязать мне руки, по крайней мере, на заработку насущного куска хлеба. Но, между тем, на самом деле мой аттестат и присмотр полиции связывают меня не только по рукам, но и по ногам (отчеркнуто Пущиным). Куда ни кинь, везде клин. Преподавать — нельзя; писать под каким-нибудь псевдонимом — того и смотри, что попадешься под новую опалу на старости лет, вступить в коронную службу (к которой, впрочем, я не имею ни малейшего призвания) без чина — это значило бы толочь воду, потому что, при всем рачении и особенно при бескорыстии, едва ли в год заработаешь на какую-нибудь сажень дров. Остается — частная, конторская служба, но вообще народ промышленный и торговый себе на уме и далеко не тянется за теми, которые пользуются вниманием полиции. Вообще, в свете, нужно отдать ему полную справедливость, нас, опальных, встречают весьма благосклонно, даже предупредительно, но при этом ни как не должно забывать французской пословицы „qui trop embrasse mal etreinf„ [кто многого хочет, малого добьется (франц.)] —иногда ошибешься в расчете: сила солому ломит.
Это-то безвыходное положение, которое, как червь, гложет сердце, и вынуждает меня просить Вас написать несколько слов тетушке, — не может ли она к бездне благодеяний, сделанных мне, прибавить еще одно — похлопотать через добрых людей о снятии с меня надзора, в существе ни к чему не служащего, как разве только камнем преткновения для меня.
Может быть, многоуважаемый Иван Иванович, Вам покажется неловким, что я обращаюсь с такой просьбой, но ведь утопающий хватается за соломку, к тому же неисчерпаемая доброта бесценной Натальи Дмитриевны на это меня отваживает. Конечно, вглядевшись несколько в настоящий ход вещей и сознавая всю рациональность моего искания, я бы, пожалуй, мог сам прямо обратиться с всеподданнейшей просьбой, но, к несчастию, у меня есть на примете такое лицо в Петербурге (подчеркнуто Пущиным), которое, не побоявшись ни бога, ни совести, готово, по особенному ко мне расположению, упрятать меня туда, куда Макар телят не гонял»54.
Отправляя это письмо жене в Петербург, Пущин писал: «...Ты верно знаешь, кто этот гусь, которого я подчеркнул. Минуй его и хлопочи! бог поможет. Д<(уров> писал это письмо 13-го февраля, а я ему послал твои деньги 12-го и много с ним от души болтал, все об тебе. Значит, оно и придет к нему завтра. Поговори о Дурове с братом Михаилом. Он может с Долгоруковым, ш<ефом> ж<андармов>, действовать, а Данзас — у Тимашева...»
Так декабристы, возвратившиеся в Россию, продолжали поддерживать своих сибирских друзей-петрашевцев.