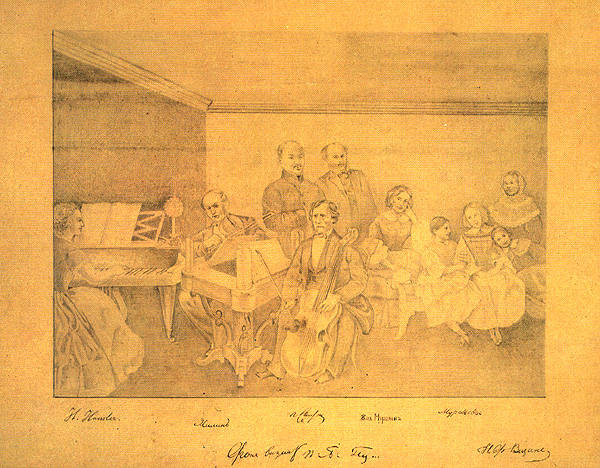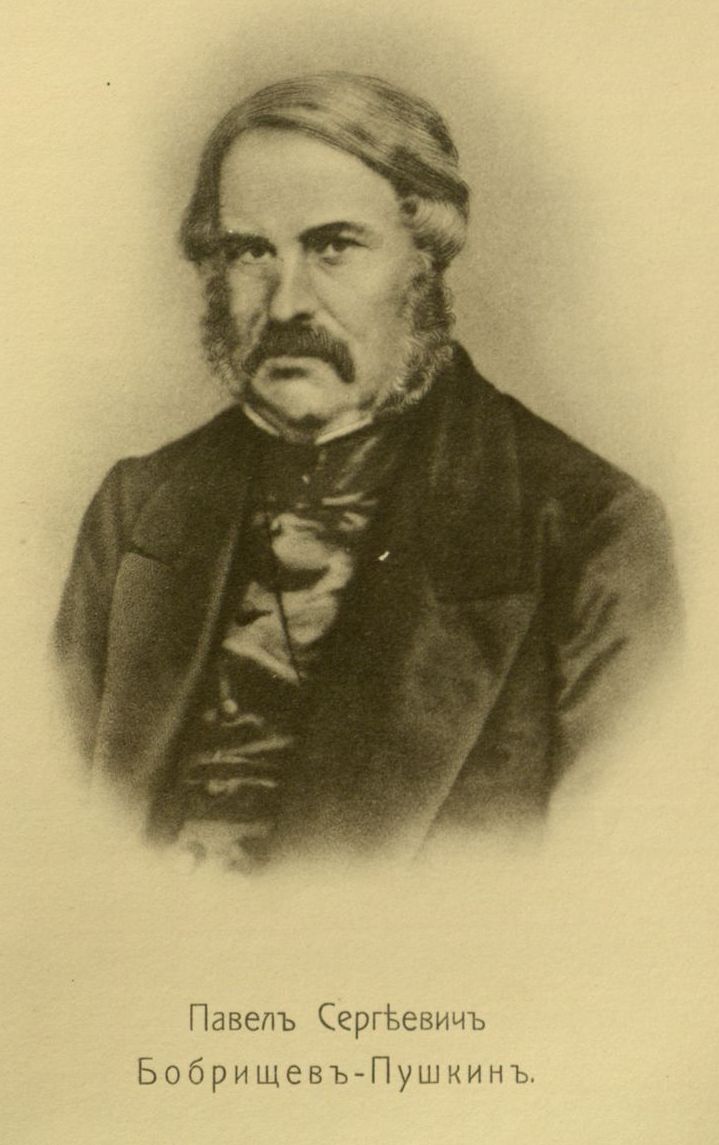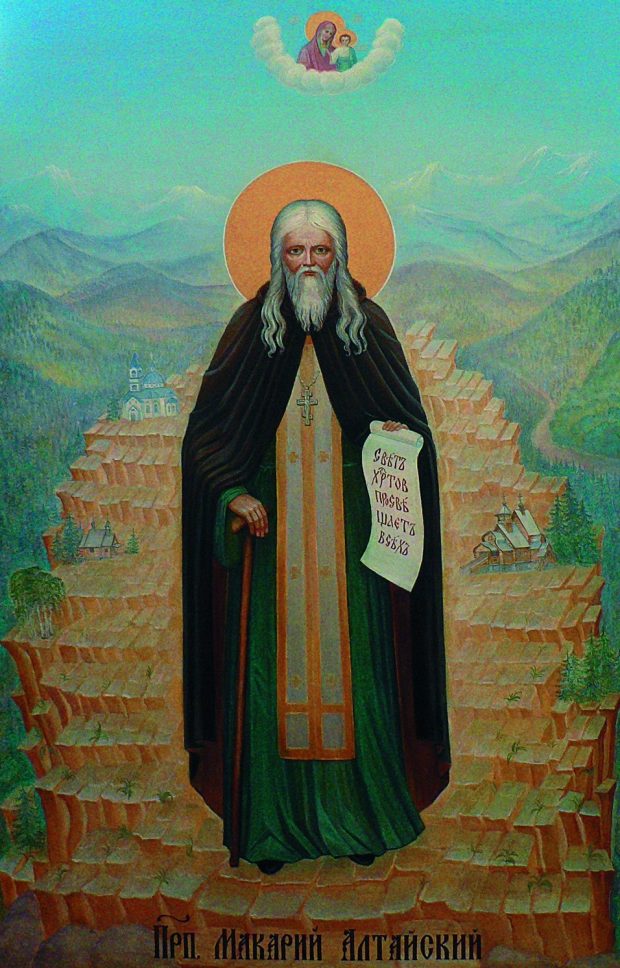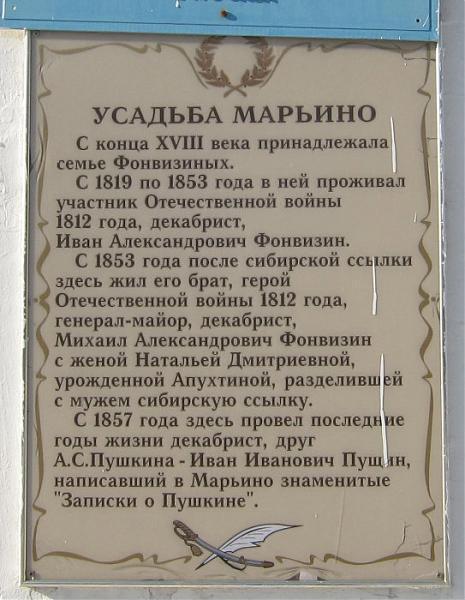Глава 1
Мои родители. — Решение моего отца ехать на службу в Сибирь. — Сцены прощания. — Приезд в Сибирь. — Назначение отца исправником в Енисейск. — Знакомство с Фонвизиными. — Описание Енисейска. — Тамошнее общество. — Разгул чиновников и замкнутость купечества. — Ссыльные поляки. — Поездка отца в Туруханск. — Злоупотребления чиновников и купцов. — Декабристы Аврамов и Бобрищев-Пушкин. — Тунгусские князьки. — Переход отца на службу в Ачинск. — Пристав Афанасьев и его похождения. — Рассказы о брате Данииле. — Его странное знакомство с моим отцом. — Праведная кончина брата Даниила.
Служба в Сибири пятьдесят лет тому назад давала большие преимущества чиновникам, потому отец мой и решился, ехать туда служить. Нужно было иметь много твердости характера, чтобы в то время с семьей, маленькими детьми, молодою женой, без средств, решиться пуститься в почти неизвестный и столь отдаленный край, как Сибирь. Отец и мать мои были уроженцы города Симбирска. Там они имели свой собственный дом с садом, а в Казанской губернии Спасского уезда небольшое именьице, полученное в приданое матерью моей при замужестве. Отец мой, хороший хозяин, умел из этого маленького именьица извлекать все нужное для жизни. Он очень любил цветы, и его небольшой, образцовый сад в Симбирске наполнен был редкими растениями; особенно славился он необыкновенной коллекцией роз; розаны были точно бархатные, их подстригали ежедневно девочки ножницами.
Мать мою выдали замуж чуть не ребенком. У нее была мачеха, матери же своей она лишилась при рождении. Отец ее женился вторично и, имея мягкий и слабый характер, подпал совершенно под влияние своей второй жены, женщины довольно властолюбивой и жестокой.
В октябре месяце матери моей минуло тринадцать лет, а в январе следующего года она уже была замужем. Она была очень хорошенькая собой; отец мой, хотя и был старше лет на 15, но тоже был недурен собой, и они прожили, любя друг друга, более тридцати лет, в продолжении которых имели двадцать человек детей. Когда семья стала увеличиваться и небольших доходов недоставало на поддержание приличной жизни, то отец мой решился искать счастья по службе в Сибири.
Хотя я была еще ребенком пяти или четырех лет, но день отъезда нашего из Симбирска в Сибирь очень врезался в моей памяти. Помню, как все родные наши собрались провожать нас, точно на смерть. Прощание было тяжелое, особенно старухи-матери с покойным отцом моим. Конечно, она расставалась без надежды с ним свидеться здесь на земле, и предчувствие не обмануло ее: 80-летняя старуха не дождалась сына из Сибири.
Все столпились в одной комнате, и господа, и дворовые люди. Пришел священник и стал служить напутственный молебен. Плач поднялся страшный, молитва лилась у всех горячая за отъезжающих в такую даль и в такую, по тогдашнему понятию, дикую страну, где, как рассказывали тогда, медведи по улицам ходили. Прощание с матерью моею больного старика-отца, приехавшего нарочно из своей деревни близ Симбирска, было также очень трогательно. Нас троих детей, старшего брата, сестру и меня, закутанных, ничего не понимающих, понесли также прощаться. Помню, что мне тяжелее всех было прощаться с бабушкой, родной матерью отца моего, которая меня в особенности любила и баловала.
Путешествия нашего в Сибирь я совсем почти не помню, смутно только помню наш приезд в Красноярск, где прожили мы несколько месяцев, потом переехали в Ачинск, где тоже оставались недолго, а потом уже отца назначили исправником в Енисейск Красноярской губернии. В Енисейске прожили мы полтора года и здесь близко сошлись с сосланными на поселение после шестилетней каторги так называемыми декабристами Михаилом Александровичем и женою его Натальей Дмитриевной Фонвизиными. Енисейск довольно большой и красивый город. В нем много церквей, два монастыря, один мужской, другой женский, много каменных домов и прекрасная набережная. Он стоит на берегу огромной реки Енисея, быстрой и широкой. Ширина реки в само городе почти две версты, быстрота же так велика, что когда начинает ломать весною лед на реке Енисее, то образуются целые горы льда, с страшным треском падающие и тотчас же вновь поднимающиеся вверх. Когда Енисей трогается, то это составляет событие в городе; все бегут на набережную смотреть и любоваться необычной картиной; шум от падения льда бывает так велик, что когда ночью он трогается, то всех жителей будит своим треском. Мои собственные впечатления об Енисейске хотя детские, но очень поэтичные. С детства я обожала природу и восхищалась ей, а в Енисейске более, чем где-либо нельзя было ей не восхищаться. Помню как теперь, что когда после наших детских учебных занятий, отпускали нас, детей, гулять с гувернером-французом по живописным окрестностям города, то трудно описать нашу радость, когда, бывало, выйдя за город, увидим расстилающийся живой ковер всевозможных цветов под нашими ногами. Я нигде потом, ни в России, ни заграницей, не видала такого богатства флоры, как там. Разнообразие и величина цветов необыкновенная: там растут фиалки, гвоздики махровые, астры, тюльпаны и незабудки величиной с серебряный гривенник и еще какие-то местные цветы оранжевого цвета, формы розы, называемые сарана. Бывало, переехав на лодке залив Енисея, мы направлялись на любимое место наших прогулок, называемое Каштак. Это долина, покрытая цветами, окаймленная живописными холмами и пригорками. Рассыпавшись по бархатным лугам, каждый из нас старается набрать как можно больше и, сделав огромные букеты, мы спешим принести их домой. Жаль только, что прекрасные цветы не имеют здесь никакого запаха.
Лето в Енисейске очень скоротечно, продолжается не более полутора месяца, много два, при температуре чуть не до 40 градусов жара. Жар бывает так велик, что мы, дети, часто забавлялись печением яиц на окнах; подоконники последних большей частью делаются из грифельного камня, который так раскаляется солнцем, что положенное яйцо легко печется на нем. Растительность идет тоже с необычайной быстротой. Если с вечера заметите растение в саду, то утром вы увидите, что оно за ночь поднялось чуть не больше вершка. Вообще, все там поспевает очень быстро; ягод лесных, малины, смородины, земляники, брусники родится множество. Изобилие рыбы, дичи, мяча — необычайное, и поэтому жизнь была в то время баснословно дешева; но зато нравственные условия были убийственны. Общества почти никакого; круг чиновников тогда был очень неразвитый грубый. Все удовольствия заключались для них в вине и картах. Бывало, празднуют именины три дня, пьют и кутят целые ночи, уезжают домой на несколько часов, а потом опять возвращают и кутят. Порядочному человеку, попавшему в их круг, становилось невыносимо. Купечество хотя очень богатое, но замкнутое тоже в своей однообразной, грубой среде. Приехав в Енисейск, мой отец волей-неволей должен был поддерживать с ними общение и даже разделять их пирушки; но, не имея с ними ничего общего, старался удалиться от них и поэтому сошелся вскоре с поселенным там семейством декабриста Михаила Александровича Фонвизина и с сосланными туда поляками, общество которых, как людей образованных, было приятное. Из поляков многие были люди милые и талантливые; они давали нам, детям, уроки. Жизнь они вели трудовую и скромную, потому что нуждались очень в средствах к существованию. Фонвизины жили тоже уединенно, хотя в средствах не нуждались. Они занимали прекрасный каменный дом с садом; обстановка у них была очень приличная и комфортабельная.
Наталья Дмитриевна Фонвизина была весьма красивая молодая женщина и большая любительница цветов. Небольшой ее садик был настоящая оранжерея, наполненная редкими растениями; она по целым дням иногда возилась в нем. Она была женщина в высшей степени религиозная и умная, ниже я буду говорить о ней подробнее. Семейство наше виделось часто с Фонвизиными и я, как ребенок, сделалась фавориткою их обоих, особенно Михаила Александровича, который вообще очень любил всех детей, почему и привязался ко мне с нежностью отца. Привязанность их, впоследствии перешедшая в горячую дружбу ко мне, сохранилась до конца жизни, о чем тоже будет сказано подробнее в своем месте.
Моему отцу, как служащему в Енисейске исправником, приходилось делать большие разъезды по делам службы. Одна из самых замечательных поездок его была в Туруханск и далее на север; он не доехал всего 200 верст до Ледовитого океана. Туруханск — маленький уездный городок с одной церковью, почти без всякой растительности летом, населенный большей частью тунгусами и остяками, которые по непроходимым тундрам охотятся на зверя и приносят в Туруханск ясак свой, то есть дань или подать из лучше пушнины. Эта подать служила источников страшного зла. Как купцы, так и начальство, пользуясь кто своею властью, а кто своими средствами, бессовестно обирали несчастным инородцев. Последние до страсти любят вино и за штоф водки готовы отдать, кажется, свою душу, не только дорогого зверя. Самый лучший ясак, то есть дорогие шкуры пушистого соболя и чернобурой лисицы переходил за бесценок в руки купцов и чиновников, которые, таким образом, страшно обогащались. Раскрыть эти злоупотребления и послан был отец мой, и если б он сам был менее честен, то мог бы тоже легко обогатиться, тем более, что над ним не было почти никакого контроля. Ему предлагали крупные взятки как купцы, так и чиновники, чтобы только скрыть их злоупотребления; но отец, по своей добросовестности, не воспользовался заманчивой прелестью легкой наживы, открыл и вывел зло на чистую воду, чем, конечно, нажил себе немало врагов. Награду же за свои честные деяния он ожидает теперь на небесах, хотя все его действия по этому делу занесены были с похвалой в формуляр. Нелегко ему было в Туруханске, на краю света, вдали от семьи, бороться со злом и чувствовать другом себя одну лишь враждебную силу. Но Бог никогда не оставляет человека правого и уповающего на Него. Господь послал ему утешение и отраду в лице встретившегося там одного тоже поселенного из декабристов, Александра Борисовича Аврамова1 , который как человек хороший, добрый и образованный был для отца в этой глуши настоящим, как он выражался, сокровищем и опорой. Не легче было, конечно, и Абрамову, почти заживо погребенному в дикой, суровой стране, далеко от всего родного, близкого, цивилизованного. Но хороший человек не падает духом, и везде, с помощью Божьей, устроит себя так что найдет возможным быть полезным другим. Абрамов был характера очень доброго, веселого и общительного, старался всем делать добро и помогал кому словом, а кому и делом, заступался часто за невинных и отстаивал их. Его все там очень любили, и когда он умер, заразившись сибирской язвой, то оплакивали, особенно бедные, как родного отца.
В Туруханск на некоторое время был тоже сослан один из декабристов, Николай Сергеевич Бобрищев-Пушкин. Несчастного из Иркутска провели туда пешком на лыжах по тундрам. Этот страдалец не вынес, однако, такого страшного испытания, сошел с ума и впоследствии был переведен по просьбе меньшого его брата, тоже декабриста, Павла Сергеевича, в Красноярск, где тот находился, а потом они вместе переведены были на поселение в Тобольск, откуда в 1856 году возвращены на родину в Россию.
В Енисейск ясак привозится самими якутскими князьями, которые иногда приезжают с своими женами. Губернские власти принимают их с большой предупредительностью, угощают и дарят разные безделушки, до которых они большие охотники. Князьки собой далеко не привлекательны; маленькие ростом, скуластые, с расплющенными носами, грязные, неопрятные, одеты летом в разное тряпье; женщины ушивают свои тряпки разными погремушками; зимою же у них есть особенные одеяния из шкур оленей, сшитых волосом вверх. Как мужчины так и женщины страстно любят водку. Однажды к отцу пришло их несколько пар мужей с женами. Отец представил их жене своей; подал им угощение и водку, без которой угощения не существует. Пьют они водку стаканами. Подвыпив, они пошли бродить без церемоний по комнатам. Забравшись в спальню, где, о по обыкновению, стояли кровати, вдруг, к ужасу матери моей, один из князьков вскочил на постель и уселся с поджатыми грязными ногами как на диване. Насилу уговорили его сойти, так понравилось ему мягкое сиденье на постели. В другой раз одной из княгинь показалось, что поданное вино не крепко, она бросила стакан с водкой на пол и потребовала лучшего, т. е. более крепкого. Под конец они до того надоели матери моей своими выходками, что она просила больше их не пускать к ней в комнаты.
Я уже сказала, что нравственная жизнь в Енисейске была очень тяжелая, с отъездом же Фонвизиных в Красноярск, куда их перевели на поселение, она стала просто невыносима. К счастью нашему, вскоре и отца перевели вторично в Ачинск, уездный город Красноярской губернии2.
Отец очень был обрадован этим переводом. Постоянные далекие, соединенные с опасностью для жизни разъезды по уезду начали сильно его утомлять и очень вредно влиять на здоровье. Во вторичное пребывание наше в Ачинске, мы прожили в нем тоже не более полутора года. Маленький уездный городок Ачинск, конечно, не мог наполнить жизни, но, по крайней мере здесь было покойнее, не было того разгула среди чиновников, как в Енисейске, и отцу не надо было ездить на дальние расстояния.
Среди ачинского общества находились люди, если и не совсем развитые, то добрые и приятные. Отца очень многие полюбили. В бытность его в Ачинске с ним случился эпизод, выходящий за рамки обыкновенных. Там жил один так называемый брат Даниил3, старец, великий подвижник, всеми уважаемый и считаемый за святого. Он жил в землянке на краю города и проводил время в постоянном труде и молитве. За кусок черного хлеба он работал по ночам, копая в огороде, косил и жал хлеб до совершенного изнеможения, отдохнув немного, вкушал пищу, то есть черный сухой хлеб и неочищенный картофель; чтобы меньше съесть он закладывал себе за пояс деревянный кол. Родом он был из малороссиян и будучи солдатом, делал компанию 1812 года. Выучившись грамоте Даниил стал прилежно заниматься чтением св. Писания и, познав суету мира, вознамерился по окончании служебных лет, уйти в монастырь: но начальство, имея в нем хорошего служаку, воспротивилось этому и стало его удерживать; он решительно объявил, что не хочет более служить. Тогда, не знаю наверно, это ли сопротивление власти поставлено ему было в вину, или был он еще оклеветан, но его сослали в Сибирь, и он попал в Томскую губернию, в Богатильский завод на вечную каторгу. Он и там все работы, возлагаемые на него исправлял без упущения, а ночи проводил в молитве. Даже днем, когда все отдыхали, он удалялся в уединенное место на молитву, чтобы его никто не видал.
Заводом управлял тогда пристав Егор Петрович Афанасьев, прозванный «бесстрашным». Человек грубый, постоянно пьяный, он и прозван был бесстрашным за пьяное удальство. Однажды, будучи, конечно, пьяным он похвастался, что на беговых дорожках проедет наверху кругом каланчи, что и исполнил к изумлению всех предстоящих. Этот-то пристав возненавидел Даниила за его святую жизнь, называл его не иначе как «святошей», насмехался, говоря: «Ну-ка, спасайся, святоша, на каторге». Ненависть к Даниилу дошла у него до крайнего предела. Раз он приказал посадить его обнаженного в трескучий мороз на крышу своего дома и обливать из пожарных машин водою, сам же с насмешкой кричал: «Спасайся, Даниил Ведь ты святой!». Праведник страдал и молился за мучителя своего, а народ с ужасом смотрел на истязания. Жена мучителя послала было шубу, чтобы прикрыть наготу страдальца, но она была сорвана с него. Однако, Господь вступился за своего верного раба и поразил мучителя внезапною страшною болезнью: у него тут же вдруг повернуло голову с сильною болью в сторону, так что лицо очутилось почти назади. Жена мучителя начала укорять мужа за св. старца». Что ты делаешь? Побойся Бога, неужели не видишь над собой праведного наказания за истязание Божьего человека, — говорила она, — отпусти его!». Тогда приказал он позвать к себе старца, начал просить у него прощения, кланялся ему в ноги и умолял помолиться за него. Старец же Даниил, забыв претерпленные страдания, с обычной добротою стал ему говорить: «Что ты, что ты, брат, да ты ни в чем передо мной не виновен. Ведь это была Божья воля – меня, негодного наказать.» После того он начал молиться за него, и ему тотчас же стало лучше и голова приняла прежнее положение. На другой день случилось Афанасьеву поехать в город Ачинск; ночью поднялась вдруг такая метель, что он заблудился и сбился окончательно с дороги. Кучер заметил ему: «Это Господь наказывает нас за то, что вчера оскорбили святого старца Даниила. Афанасьев в испуге внутренне обратился с мольбою к Даниилу: «Прости меня, старче Данииле, и избавь нас от неминуемой смерти. Более тебя держать даже на заводе не буду и отпущу на волю». Повернув лошадей наудачу, они вдруг очутились близ самой дороги. Как только Афанасьев возвратился назад, то сейчас же написал донесение к губернатору, что такой-то Даниил совершенно не способен к работе — и отпустил его на волю, на пропитание. Все эти подробности пришлось нам слышать от жены Афанасьева, у которого по приезде нашем в Ачинск жили мы на квартире. Слава о святой жизни старца Даниила росла с каждым днем и отцу моему очень хотелось его видеть.
Однажды отец сидел в своем кабинете и занимался делами, как вдруг вбегает в комнату какой-то оборванец, бросается прямо к нему и треплет за плечо со словами: «А, здравствуй, исправник, я пришел к тебе за делом!». Отец, увидя перед собой какого-то бродягу так фамильярно с ним обращающегося, закричал на него и хотел было вытолкать, но в эту минут входит письмоводитель и останавливает отца: «Что вы делаете, Дмитрий Иванович! Ведь это брат Даниил!». Можно представить удивление в вместе радость отца, узнавшего, что у него в доме давно желанный праведник. Отец тотчас же извинился перед ним. Брат же Даниил (его всегда звали братом по его собственному желанию; отцом он не позволял себя называть , говоря — у нас один отец, Господь, остальные все братья) продолжая трепать отца по плечу говорил: «А я ведь к тебе по делу! У тебя есть дело, в котором обвинили невинного и оправдали виновного, рассмотри-ка дело хорошенько». Отец обещал все сделать и так был уверен в справедливости защиты брата Даниила, что тотчас же велел выпустить на свободу обвиняемого. Впоследствии по тщательному рассмотрению дела, точно оказалось, что обвиняемый, как говорил брат Даниил, был прав. С тех пор он довольно часто забегал к нам и привязался к отцу и матери моим. Не раз потом, по просьбам брата Даниила, которого отец очень чтил как святого, нам приходилось делать доброе дело. Денег он никогда не брал. «Сам находи бедных, если хочешь истинно помогать им», — отвечал он всегда, когда ему предлагали денег. О его жизни и деяниях ходило множество рассказов.
За несколько месяцев до своей кончины брат Даниил переселился из Ачинска в Енисейск, в женский монастырь, к игумении Евгении, которой лет за десять перед тем, когда она еще жила с мужем, предсказал, что она будет в Енисейске игуменьей, и что тогда он придет к ней, и она похоронит его. Вот как она сама описывает это в своих записках:
«Когда я еще жила в мире, то часто приглашала к себе брата Даниила и в саду хотела ему выстроить келью по его желанию. Но он мне говорил: «Ты сама живешь на болоте, а когда будешь жить на твердой земле, тогда я к тебе приду, ты меня и похоронишь». Так и случилось, ибо через десять лет я поступила в игуменьи, приехал ко мне дорогой мой гость, и только вошел в келью мою, сказал: «Вот теперь ты живешь на твердой земле, и я к тебе приехал погостить; ты меня и похоронишь». Погостил мой гость только три месяца и преставился 15 апреля 1843 года в четверг на Пасхе. Накануне своей смерти он с удовольствием осматривал местность в монастырской ограде и говорил мне: «Завтра меня уже не будет, вы не говорите — я уехал, а скажите: был, да нет Даниила». И подлинно так; с вечера был здоров, в утреню исповедался, а в раннюю обедню причастился Святых Таин. Мне он сказал: «Приди ко мне в третьем часу». Я, придя, послала за священником, и он прочитал отходную. Старец стал на колени, я поддержала его за плечи. Он же сказал мне: «Бог тебя простит, мое золото». С этими словами он скончался. Когда начали его обмывать, увидели на теле берестовый пояс, уже вросший в тело и кровь, запекшуюся около пояса; с тем его и положили в гроб. Я с радостью такое сокровище похоронила в ограде монастыря. Скончался он около шестидесяти лет. На похороны его столько стеклось народу, что надо было бы подивиться. Еще не знали хорошо странника в нашем городе, а все собрались в церковь от малf до велика.
Глава 2
Перевод моего отца на службу в Красноярск. — Намерение его возвратиться в Россию. — Переезд в Тобольск. — Назначение его советником Тобольского губернского правления. — Декабристы. — Ссыльные поляки. — Генерал-губернатор князь Горчаков. — К рестьянский бунт и его усмирение моим отцом. — Княгиня Н. Д. Горчакова. — Перевод генерал-губернаторского управления в Омск. — Наталья Дмитриевна Фонвизина. — Ее жизнь до замужества. — Что послужило Пушкину темой для поэмы «Евгения Онегина». — Самоотверженный подвиг Н. Д. Фонвизиной.
В Красноярске, куда был переведен из Ачинска отец, мы опять встретились со старыми знакомыми, Фонвизиными, и снова прожили года полтора вместе с ними. Там поселены были еще некоторые из декабристов: два брата Бобрищевы-Пушкины, Краснокутский, Митьков. Так как Красноярск губернский город, то и состав чиновников был более порядочен и образованный. Жизнь там была более приятная, чем в уездных городах. Декабрист Краснокутский был холостой, разбитый параличом, почему все его товарищи и знакомые собирались к нему, беседовали, играли иногда в карты. Переведенный впоследствии в Тобольск, он там умер.
Красноярск довольно большой красивый город тоже с замечательными живописными окрестностями и изобилием флоры, как и в Енисейске. Зимы там жестокие до сорока градусов мороза, но без снега. Постоянные сильный ветер, дующий в ущелье, сносит совершенно снег. На Рождестве часто приходилось ездить по замерзшей земле на колесах. Я помню как мы, дети, боялись ездить по замерзшей реке, гладкой как лед, совсем без снега.
По отъезде Фонвизиных из Красноярска в Тобольск, куда их по просьбе родных перевели, отец мой недолго оставался в Красноярске. Ему надоело жить в Сибири, и он задумал возвратиться в Россию, куда мы и отправились обратно в декабре месяце 1839 года.
Тобольск лежал нам не по пути, но мы нарочно заехали туда, чтоб повидаться и проститься в последний раз с Фонвизиными. Тогда в Тобольске генерал-губернатором был князь Петр Дмитриевич Горчаков родственник и друг Фонвизиных. Михаил Александрович Фонвизин уговорил отца остаться в Тобольске и рекомендовал его князю Горчакову как честного человека; отцу предложили место советника в губернском правлении, которое он и принял. В Тобольске мы прожили, не разлучаясь с Фонвизиными, в постоянной, а потом тесной дружбе, ровно шестнадцать лет. В Тобольск же вскоре переведены были из Красноярска братья Бобрищевы-Пушкины, тоже наши хорошие знакомые, а впоследствии и дорогие друзья, а вскоре затем и еще несколько семейств из декабристов: Анненков, Александр Михайлович Муравьев, доктор Вольф, Петр Николаевич Свистунов, барон Штейнгель, Башмаков, Степан Михайлович Семенов, князь Барятинский. Недалеко от Тобольска, верст за 200, в уездном городе Ялуторовске поселились также на житье декабристы: Матвей Иванович Муравьев-Апостол, Иван Дмитриевич Якушкин, Иван Иванович Пущин, барон Тизенгаузен, Ентальцев, Басаргин. Все они нередко приезжали в Тобольск, конечно, с разрешения губернатора и, принадлежа большею частью к высшему обществу, отличались образованием и простотой обращения.
Первые годы нашей жизни в Тобольске шли однообразно; мы, дети, заняты были учением, отец службой. В Тобольске, как и в Енисейске, нашими учителями были большею частью сосланные поляки. Между ними особенно отличался некто граф Мархидский, дававший нам уроки музыки на фортепиано. Многие были приняты в обществе и участвовали на балах и вечерах и были, конечно, из первых танцоров.
Фонвизины в Тобольске вели жизнь хотя и скромную, но имели уже довольно обширное знакомство благодаря своим прекрасным качествам, а также родству с генерал-губернатором князем Горчаковым, который бывал у них всегда запросто, как близкий родственник. Надо сказать, что Горчаков в первые годы своего губернаторства, когда главная резиденция его была в Тобольске, вел себя безукоризненно и мудро управлял краем, преследовал и искоренял взяточничество, умел выбирать и окружать себя людьми честными и добросовестными. Он понял моего отца и отличил полными доверием, поручая ему многие запутаннее дела, требовавшие добросовестного исполнения; с Божьей помощью, отец неутомимо, не щадя своих сил, исполнял их с успехом. Некоторые поручения приходилось ему исполнять с опасностью жизни; так, например, в одном уезде произошел бунт крестьян, причиной которого был один из проезжавших торговцев, рассказывавший вольным крестьянам, будто бы государь хочет и их, по примеру России, закабалить в крепостные и отдать помещикам, несмотря на то, что в Сибири никогда не существовало крепостного права, народ был все вольный и жил на богатых сибирских пажитях, имея в своем распоряжении землю, лес, и все угодья этого богатого края. В подтверждение своих рассказов торговец сочинил, что будто бы он даже обогнал целый обоз лаптей, которых сибиряки никогда не носили, но которые заставят их надеть, как эмблему крепостного над ними права. Народ был настолько глуп, что поверил этим басням и взбунтовался против предстоящей крепостной кабалы; приехали исправник и заседатель и стали их уговаривать; не сумев хорошо убедить, они хотели силою заставить их молчать; однако этим до того разъярили народ, что он бросился на начальство и буквально на куски разорвал несчастных исправника и заседателя. Сейчас же дали знать в Тобольск князю Горчакову, который и послал для усмирения бунтовщиков моего отца как доверенное лицо. Можно себе представить, как тяжело было отцу ехать туда, чуть не на явную смерть. Но так как он был глубоко верующий человек, то, предавшись на волю Всевышнего, напутствуемый молитвами семьи и советами добрых друзей Фонвизиных, бодро отправился к своей цели.
Толпа, когда отец приблизился к ней, еще бушевала и не хотела слушать никаких доводов, но мало-помалу услышав кроткие убеждения и разрешение лжи легкомысленного торговца, начала стихать и наконец убедилась в малодушном доверии к басням рассказчика. Раскаявшись, она выдала зачинщика и с благодарностью отнеслась к отцу за то, что он сумел наставить их на истину, чем спас многих от погибели. Благополучное усмирение бунта еще более возвысило глазах князя Горчакова моего отца, который после этого сделался окончательно его любимцем.
Княгиня Наталья Дмитриевна Горчакова, урожденная Черевина, находилась в близком родстве с Натальей Дмитриевной Фонвизиной и ежедневно виделась с нею. Бывало придет со всеми своими детьми к Фонвизиным и отводит душу по целым вечерам в обществе у них. Она была женщина очень скромная и в высшей степени застенчивая, близорукая, терялась при появлении каждого нового человека, так что официальные приемы у генерал-губернатора были для нее просто невыносимы; она любила жизнь более тихую и скромную, много занималась воспитанием детей, часто ездила в Россию, а под конец и совсем переселилась туда; мужу не нравились ее частые уклонения от общественных приемов и ее частые отлучки, но он ничего не мог сделать.
Князь Горчаков перевел свою резиденцию из Тобольске в Омск, за шестьсот верст от Тобольска, ближе к киргизской степи, куда, как он уверял, делали часто набеги киргизы, почему его корпусной квартире и следовало быть ближе к этой местности. С удалением главной квартиры, управления генерал-губернатора, войска, чинов штаба в Омск Тобольск совершенно опустел, сделался скромным губернским городом, и жизнь в нем началась довольно скучная. Собственно для меня это была лучшая пора, потому что в этот период мы больше сблизились с Фонвизиными. На меня как на девочку с пылким воображением и восприимчивой натурой Наталья Дмитриевна имела громадное нравственное влияние. Она была замечательно умна, образованна, необыкновенно красноречива и в высшей степени духовно-религиозно развита. В ней так много было увлекательного, особенно когда она говорила, что перед ней невольно преклонялись все кто только слушал ее. Она много читала, переводила, память у нее была громадная; она помнила даже все сказки, которые рассказывала ей в детстве ее няня, и так умела хорошо, живо картинно представить все, что видела и слышала, что самый простой рассказ, переданный ею, увлекал каждого из слушателей. Характера она была чрезвычайно твердого, решительного, энергичного, но вместе с тем необычайно веселого и проста в обращении, так что в ее присутствии никто не чувствовал стеснения. Высокая религиозность ее проявлялась не в одних внешних формах обрядового исполнения, но в глубоком развитии видения духовного; она в полном смысле слова жила внутренней, духовной жизнью. Читала она всевозможные духовные книги, не говоря уже о Библии, которую знала всю почти наизусть, читала творения св. отцов нашей православной церкви и писателей католической и православной церквей, знала немецкую философию, к тому же обладала еще необыкновенно ясным и глубоким взглядом на жизнь.
С ней редко кто мог выдержать какой-нибудь спор, духовный ли, философский или политический. Как бывало мудро и глубоко умела она соединить мировые события с библейскими пророческими предсказаниями. Не раз приходилось ей развивать архиереям такие евангельские истины, к которым они сами не вникали, и поражать их глубиною своего духовного видения. Один из тобольских архипастырей настолько поразился ее знаниями, что заставил ее написать объяснение на молитву «Отче наш», которое до сих пор сохранилось. Объяснение этой молитвы ясно выказывает глубокое чувство верующего человека. Жизнь ее с детства была необыкновенная. Она была единственная дочь богатого человека, Апухтина, женатого на Марии Павловной Фонвизиной. Он долго был предводителем в Костроме, где были у него большие поместья. В этих-то костромских лесах и воспитывалась поэтичная натура его дочери. Она любила поля, леса и вообще привольную жизнь среди народа и природы, не стесненную никакими лживыми личинами светской жизни в городах.
Мать ее была очень благочестивая женщина, любила принимать разных странников, монахинь и, конечно, воспитала дочь в благочестивом направлении. Но экзальтированная юная душа дочери не удовлетворилась одними наружними формами религии. Она страстно предалась чтению разных духовных книг. Из жизнеописаний святых она увлекалась более всего мученическими и аскетическими из любви к Христу подвигами их. Сердце ее загорелось тою же любовью к Господу, и она начала подражать им. С 14-ти лет она несла втихомолку разные своего рода подвиги. Носила из веревки, вареной в соли на теле пояс от которого много страдала, потому что он разъедал ее нежное тело. Надо заметить, что она была очень красива собой, и чтобы на нее менее обращали внимания, она стояла по целым часам на солнечном упеке и радовалась, когда кожа на ее лице трескалась от солнечных лучей.
Когда ей исполнилось 16 лет, то к ней стало свататься много женихов, о которых она и слышать не хотела, решившись в сердце посвятить себя Богу и идти в монастырь. Родители, узнав о ее желании, восстали против него и потребовали, чтобы она вышла замуж. Тогда она задумала тайно удалить в монастырь. Несмотря на молодость лет, она устроила все очень умно; заинтересовала своим горячим признанием местного деревенского священника, ее духовника, который помог ей уйти из дома родительского дал ей одежду сына своего семинариста, обрезал ее прекрасные волосы и нарек ее именем Назария. Она ночью вышла из дома и шла лесом одна, распевая псалмы и молясь внутренне Господу. Страха, как она рассказывала потом мне, не ощущала никакого, только спешила, чтобы до утра уйти как можно дальше от родных мест. К утру, впрочем, она очень ослабела; но боясь зайти в деревню, поворотила в глушь леса и, сев на пень, подкрепила себя куском черного хлеба, взятым ею из дома священника. Отдохнув немного, она пошла далее, и прошла, таким образом, верст 70 до вечера следующего дня. Платье ее, то есть рубашка и кафтанчик семинариста, изорвались; из ног струилась кровь, так как она шла босиком; но она радовалась и восхваляла Бога, что за него терпит, спешила дойти до святой обители, которая была уже в нескольких только верстах от нее. Как вдруг слышит стук экипажа по дороге. Она свернула скорее в сторону и в проезжающем узнала одного из своих прежних женихов, г. Верховского. Он проехал было мимо нее, но потом, заметив мальчика, вернулся прямо к ней и спросил не видел ли он барышню, и каково было его удивление, когда в мальчике тотчас узнал ее. Бороться с ним она, конечно, не могла; он посадил ее к себе на дрожки и привез обратно к родителям.
Утром, в день ее побега, когда родители узнали, что дочь пропала, конечно, поднялась страшная суматоха, разослали людей в поиски, недоумевая, куда она могла уйти. Однако, успели выпытать тайну ее побега в монастырь от ее приятельницы, девушки ее лет, жившей у них же в доме. В эту суматоху приезжает к ним Верховский и, узнав в чем дело, поскакал тотчас же сам в погоню по направлению к женскому монастырю, где на дороге, как описано выше и успел догнать ее.
Возвратившись в дом родительский, она покорилась своей участи и дала обещание слезно умолявшей ее матери не уходить, пока они живы, в монастырь; но с условием не принуждать ее выходить замуж. Так прожила она спокойно несколько лет.
Ее страстная натура не избегла, однако, некоторых увлечений. Дом богатого ее отца, любившего жить открыто, всегда был полон гостей, родных, знакомых, приезжавших часто из Москвы в великолепное их имение, стоящее на берегу живописной реки Унжи Костромской губернии.
Один из молодых людей, посещавших из Москвы, сумел как-то тронуть и увлечь сердце молодой деревенской красавицы; она с доверчивостью своего благородного юного сердца слушала напевы легкомысленного юноши, верила им и надеялась было уже найти с ним счастье, но разочарование ее было жестоко, когда юноша, разведав, что состояние ее отца очень расстроено, что широкая жизнь запутала его дела, и что он за дочерью не может дать того, чего он ожидал, переменив общение, стал от нее удаляться и уехал, не объяснившись даже с ней, в Москву.
Ее благородное сердце было сильно уязвлено и оскорблено низостью поступка молодого человека. Вскоре после этого приехал к ним в деревню двоюродный ее дядя Михаил Александрович Фонвизин, человек в высшей степени добрый, честный, умный и очень образованный. Он знал ее с детства и любил ее всегда как милую девочку; но за время как он не видел ее долго, она успела расцвести и из наивной хорошенькой девочки превратиться в красавицу, полную огня, хотя и с оттенком какой-то грустной сосредоточенности. Михаил Александрович, будучи мягкого нежного сердца, не устоял и пленился настолько своей племянницей, что привязался к ней страстно. Она, видя горячую его привязанность к ней, не осталась равнодушную к его чувству тем более, что имела случай оценить благородные его качества и высоко-бескорыстное сердце, высказывавшееся, как она узнала в следующем великодушном относительно ее отца поступке. Отец ее задолжал ему порядочную сумму денег, и когда Михаил Александрович узнал о расстройстве его дел, то разорвал вексель и бросил в камин. Старик отец хотя был очень тронут его благородным великодушием, но гордой душе его тяжело все-таки было перенести унижение перед другом. Заметив нежные его чувства к дочери, он очень обрадовался, когда Михаил Александрович заявил ему о желании на ней жениться, если получит ее согласие. У гордого отца после этого объяснения точно камень свалился с сердца. Он, зная нерасположение дочери вообще к замужеству, передал ей предложение дяди и при этом рассказал ей о великодушном ее поступке относительно векселя, прибавив, что он был бы вполне счастлив, если б она не отвергла его предложения и тем как бы уплатила за отца и спасла бы его гордость и честь. Наталья Дмитриевна и сама настолько уже успела привязаться к Михаилу Александровичу, что узнав о таком бескорыстном его поступке и будучи глубоко верующей душою приняла все это как за указание воли Божьей выйти замуж за дядю, спасти честь любимого отца, и тотчас же согласилась быть женою этого благородного человека.
Через несколько месяцев они обвенчались в костромском их родовом имении Давыдове и вскоре переехали на житье в Москву, где Наталья Дмитриевна, окруженная многочисленной роднею как со стороны мужа, так и своей должна была постоянно посещать свет. Не любя его, она скучала пустотой светской жизни, тосковала и рвалась к своим заветным полям и лесам. Роскошные балы, где она блистала своею красотою, нисколько ее не привлекали. Посреди этой светской лжи и лести духовная внутренняя ее жизнь как бы уходила еще глубже в сердце, росла и крепла в ней. Столкновение с разнородными людьми выработало еще более серьезную сторону и из наивной экзальтированной девочки она превратилась в женщину необыкновенно умную, сосредоточенную, глубоко понимающую свои обязанности. Это доказывает очень характеристичный эпизод ее встречи на одном бале с тем молодым человеком, который когда-то так увлекал ее своими льстивыми уверениями и так горько разбил ее чистые мечты.
На бале он был поражен встречей с женой заслуженного и всеми уважаемого генерала, блестевшую красотой и умом, не наивною уже девочкой когда-то и его самого увлекавшей, но очаровательной женщиной, окруженной толпой поклонников. Его низкая натура проявилась еще раз тем, что он не задумался стать тоже в число ее поклонников, рассчитывая на прежнюю ее к нему симпатию, но был уничтожен благородным и гордым ее отпором, как низкий ухаживатель за чужой уже женой. Тема «Евгений Онегин» взята Пушкиным именно из жизни Натальи Дмитриевны; этот эпизод и многие подробности были ему переданы одним из общих их знакомых. Когда вышли первые главы поэмы «Евгений Онегин», то Михаил Александрович находился уже в крепости. Однажды один из родственников Натальи Дмитриевны, Молчанов, прибегает к ней и говорит: «Наташа, знаешь, ведь ты попала в печать! Подлец Солнцев передал Пушкину твою историю и он своим поэтическим даром опоэтизировал тебя в своей поэме «Евгений Онегин»!»
Наталья Дмитриевна до конца жизни сохранила свой твердый решительный характер. Она знала, что муж ее принадлежал к тайному обществу, но не предполагала, однако, чтоб ему грозила скорая опасность. Когда же после 14-го декабря к ним в деревню Крюково, имение, принадлежащее Михаилу Александровичу по Петербургскому тракту, где они проводили зиму, явился брат Михаила Александровича в сопровождении других, незнакомых ей, лиц, то она поняла тотчас же, что приезд незнакомых людей относится к чему-то необыкновенному. От нее старались скрыть настоящую причину и сказали, что ее мужу необходимо нужно ехать в Москву по делам, почему они и приехали за ним по поручению товарищей его. Беспокойство, однако, запало в ее сердце, особенно когда стали торопить скорейшим отъездом; она обратилась к ним с просьбой не обманывать ее: "Верно, везете его в Петербург?» - приставала она к ним с вопросом. Они старались уверить ее в противном. Муж тоже, чтобы не огорчат ее вдруг, старался поддержать обман, простился с нею наскоро сжав судорожно ее в своих объятиях, благословил двухлетнего сына, сел в сани с незнакомцами, и они поскакали из деревни. Наталья Дмитриевна выбежала за ними за ворота и, не отрывая глаз, смотрела за уезжавшими, когда же увидела, что тройка, уносящая ее мужа, повернула не на московский, а на петербургский [тракт], то, поняв все, упала на снег, и люди без чувств унесли ее в дом. Оправившись от первого удара, она сделал нужные распоряжения и на другой же день, взяв с собой ребенка и людей, отправилась прямо в Петербург, где узнала о бывшем 14 декабря бунте на площади и о том, что муж ее арестован и посажен в Петропавловскую крепость.
Она не упала духом, разузнала о других арестованных лица познакомилась с их женами и подговорила их как-нибудь проникнуть к заключенным мужьям. Однажды она сказала жене товарища мужа, Ивана Дмитриевича Якушкина, с которой была дружна: «Наймем лодку и поедем кататься по Неве мимо крепости!» И две молодые предприимчивые женщины, наняв ялик, долго плавали около крепости, наконец, заметили каких-то гуляющих арестантов, но побоялись приблизиться к ним, не зная наверно, кто они, и опасаясь быть замеченными.
Разузнав потом хорошенько у служителей крепости, за деньги, конечно, как помещены их узники, они узнали также, что их водят в известный час каждый день гулять по берегу Невы вдоль крепости. Тогда они смелее стали продолжать ежедневно свои прогулки на ялике по Неве, и когда завидели вдали опять гуляющих арестантов, то подъехали ближе настолько, чтоб они могли их заметить, стали махать им платками и делать разные знаки, по которым заключенные и узнавали своих жен. Потом достигли уже того, что стали передавать им записочки и получать ответы на разных грязных бумажках или табачных бандеролях, которые сохранились у меня до сих пор. Она, как только ей стало известно решение участи мужа, что ссылается в Сибирь на каторгу, решилась последовать за ним в изгнание, но не могла ранее года исполнить свое желание. Когда муж ее уже сидел в крепости, у нее родился второй сын, после которого она долго не могла оправиться. Мужа же в продолжение этого времени отправили в Сибирь, и она не имела никакого известия о нем, так что не знала, жив ли он там или нет.
Родители ее восстали против ее решения ехать за мужем на каторгу. Она была у них единственная дочь, и разлука с ней почти навек казалась для них невозможной. Но твердая решимость дочери исполнить священную обязанность относительно изгнанника-мужа заставила их покориться своей скорбной участи и расстаться с любимой дочерью. Предчувствие их не обмануло – они не видали ее больше. Отец недолго пережил сразившее его горе, а мать от постоянных слез сначала ослепла, и когда начала терять зрение, то умоляла императора Николая Павловича о позволении дочери приехать из Сибири повидаться с нею хоть на один только день. Но просьба слепнущей старухи-матери не была уважена императором. Дочери поставлено было условие: раз выехав из Сибири – не возвращаться более назад к мужу, на что, конечно, дочь не согласилась, и старуха-мать так и ослепла, а потом умерла, не повидавшись с дочерью на земле.
Устроив своих двух малолетних сыновей у дяди, Ивана Александровича Фонвизина, родного брата Михаила Александровича, человека высоких нравственных правил, честного, доброго, благочестивого и горячо любившего брата, Наталья Дмитриевна поехала одна с девушкою и с фельдъегерем на козлах, оторванная от родной семьи, родины, друзей, в неведомую даль, с будущим, покрытым таинственным мраком.
До Тобольска она доехала благополучно, но там захворала и должна была пробыть несколько времени. На ее счастье тогда в Тобольске был губернатором один из ее родственников, Н. Д. Бантыш-Каменский, который принял в ней живое участие, поместил ее у себя в доме и обращался с нею, как с близкою родной, устроил отъезд ее дальше с лучшими удобствами, дал ей в провожатые по своей губернии чиновника; таким образом она благополучно доехала до Иркутска и дальше в Читу, сделавшуюся тюрьмой для 120 государственных преступников. Встреча ее с мужем в тюрьме, с цепях, столько была радостная, сколько же и тяжелая. Но твердость духа и упование на Господа не оставляли ее и в эти тяжкие минуты. Она поняла вполне свое высокой назначение быть нравственной поддержкой для мужа, почему и взялась с истинным самоотвержением за свой великий подвиг. По прошествии полутора года проведенных в Чите, в тюрьме, всех декабристов перевели в Петровский завод за 700 верст от Читы; там нарочно для них была выстроена тюрьма. Туда последовали за ними и жены их.
Глава 3
Влияние декабристов на сибиряков. — Уважение к декабристам каторжников. — Случай с княгиней Трубецкой. — Характеристика М. А. Фонвизина. — Обзор жизни Фонвизиных в Тобольске. — Архиепископ Афанасий. — А. М. Муравьев. — Доктор Ф. Б. Вольф. — И. А. Анненков. — Его жена Прасковья Егоровна. — Виолончелистка Христиани. — Граф Н. Н. Муравьев-Амурский. — П. Н. Свистунов. — П. С. Бобрищев-Пушкин. — Холера в Тобольске.
Декабристы в тех местностях Сибири, где они жили, приобретали необыкновенную любовь народа. Они имели громадное нравственное влияние на сибиряков: их прямота, всегдашняя со всеми учтивость, простота в обращении и вместе с тем возвышенность чувств ставили их выше всех, а между тем они были равно доступны для каждого, обращающегося к ним за советом ли, с болезнью ли, или со скорбью сердечной. Все находили в них живое участие, отклик сердечный к своим нуждам.
Даже осужденные за разные преступления простые каторжники и те, несмотря на свою закоренелость, выказывали им своего рода уважение и предпочтение. Вот некоторые тому примеры. Первые из декабристов, восемь человек, были сосланы на каторгу в Нерчинские заводы: князья Волконский, Трубецкой, два брата Борисовы, Давыдов, Артамон Муравьев, князь Оболенский и Якубович; они были помещены в тюрьме вместе с простыми каторжниками. Последние поняли, что эти люди, хотя и осуждены тоже на каторгу, но все-таки не такие злодеи, как они. Что же делают каторжники? Сговариваются и решают сделать занавес, собирают разное тряпье и отделяют себя от них импровизированной занавесью.
Другой случай был с княгиней Трубецкой в Чите или в Петровске: она жила со своею горничною девушкой в нанятом крестьянском домике, который разделялся сенями на две половины; в одной жила сама хозяйка, женщина довольно грубая и недобрая, в другой же половин помещалась княгиня Трубецкая. Она была удивительной доброты, кроткая и милая в обращении. Когда во время своих одиноких прогулок по лесам и горам. Княгиня встречалась с беглыми каторжниками, то старалась всегда с ними быть ласковой, давала им денег, и они ее боготворили, почитали, и , конечно, не делали ей никогда ни малейшего зла. Однажды они задумали обокрасть ночью хозяйку, у которой жила Трубецкая, но чтобы не пугать последнюю, предупредили об этом е девушку и просили передать княгине, что если она услышит ночью шум на хозяйской половине, то не пугалась бы, что они ее не тронут. Девушка с вечера побоялась все-таки сказать барыне, но, разбуженная стуком, сообщила тогда княгине о случившемся. Злодеи приперли шестом снаружи даже дверь, чтобы княгиня в испуге не выскочила ночью.
В Петровске жены декабристов приобрели свои деревянные дома и украсили их со вкусом, сколько могли. Их мужьям было разрешено приходить на свидание с женами в продолжение нескольких часов, тогда как прежде они могли видеться только в тюрьме, где иногда испытывали большие неприятности.
Особенное счастье для заключенных, что назначенный главным над ними тюремщиком, или комендантом, генерал Лопарский был человек образованный, добрый и умный, так что они все уважали и любили его. У них у всех почти сохранились его портреты. По окончании срока каторги многие из декабристов были посланы на поселение в сибирские города. Фонвизины попали в Енисейск Красноярской губернии, куда, как я уже сказала раньше, вскоре мы и приехали и познакомились там с ними. Здоровье Натальи Дмитриевны не выдержало, однако, тяжелых испытаний и расстроилось серьезно. Особенно много болела и страдала она в Чите и Петровске; местность, окруженная горами, дурно повлияла на ее нервы, и она получила там сильную нервную болезнь, от которой страдала в продолжение десяти лет. Она была очень радушная, гостеприимная хозяйка и любила так же, как и муж ее, угощать; впрочем, он всегда сам занимался столом. В Тобольске, при обилии рыбы и разнородной дичи, стол у них был всегда прекрасный. Сухие же продукты, как то: миндаль, чернослив, грецкие и другие орехи, кофе, горчица, конфеты, масло прованское и т. п., присылались им пудами прямо из Москвы, так что недостатка ни в чем они не имели.
Сначала они нанимали квартиры, а потом купили собственный деревянный дом с садом. Так как Наталья Дмитриевна была большая любительница цветов, то разбила и украсила свой сад превосходными цветами, выписывая семена из Риги, от известного в то время садовода Варгина, завела оранжерею и теплицу: у нее были даже свои ананасы. Нередко собирались у них по вечерам друзья, беседовали, спорили. Фонвизины получали разные журналы, русские и иностранные, следили за политикой и вообще за всем, что делалось в Европе. Все их интересовало. Умные, увлекательные их беседы были весьма поучительны.
В Сибири у Фонвизиных родилось двое детей, которые там же и умерли в малолетстве. Тогда они начали воспитывать чужих детей. Подружившись очень с тобольским протоиереем Степаном Яковлевичем Знаменским, очень почтенным и почти святой жизни человеком, обремененным большою семьей, они взяли у него на воспитание одного из сыновей, Николая, который и жил у них, продолжая учение свое в семинарии. По окончании же курса они доставили ему возможность пройти в Казанской духовной академии курс высшего образования. Он и до сих пор жив и служит в Тобольске по гражданской части. Затем они воспитывали еще двух девочек, которых потом привезли с собою в Россию и выдали замуж.
Отличительным свойством Мих. Алекс. Фонвизина было необыкновенное добродушие; любящее сердце его никогда не помнило зла и он всегда старался смягчить ласковым непритворным обхождением даже тех, кто к нему относится недоброжелательно. Поразительный пример этой черты представляется очень характеристично в следующем эпизоде его жизни в Енисейске. Когда после шестилетней каторги Фонвизины были поселены там, то в отдаленном уездном городе неразвитые и грубые уездные власти с высокомерием стали обращаться с ними. Особенной невежественностью отличался непосредственный его начальник некто Т-ов. Все письма, получаемые из России, доставлялись не иначе как через него, он их прежде сам прочитывал, а потом уже передавал кому следует. Михаил Александрович сам должен был ходит за ними к нему, и он не удостаивал даже собственноручно их передавать, а только указывал рукой на лежащие на столе письма, тот брал их и уходил. Грубое это обращение продолжалось до приезда из Красноярска губернатора, который как только приехал, тотчас же посетил Фонвизиных, и Михаил Александрович передал ему, как грубо власти обращались с ним. Губернатор пригласил Михаила Александровича на официальный к себе обед на котором посадил его около себя и большей частью разговаривал во время обеда ним, что немало изумило властей. Т-ов после отъезда губернатора совершенно изменился в своем обращении с Михаилом Александровичем, и чтобы выказать свое благорасположение, стал зазывать и поить его силой на своих пьяных пирушках. Михаил Александрович перестал бывать у него, но начальник не унимался, желая, видимо, загладить свое прежнее грубое обращение; зазвав его однажды к себе, велел запереть ворота и не выпускать от себя до самого утра другого дня. Наталья Дмитриевна, будучи беременна, слабая и больная, провела эту ночь в такой тревоге за мужа, что через несколько дней выкинула и чуть не умерла. Вскоре после этого перевели Фонвизиных из Енисейска в Красноярск, а через год по их личной просьбе в Тобольск, где жил, как я говорила выше, генерал-губернатор Западной Сибири князь Петр Дмитриевич Горчаков. Несколько лет спустя приезжал в Тобольск искать места бывший окружной начальник Енисейска Т-ов; узнав о родстве Михаила Александровича с князем Горчаковым, он обратился к нему с просьбой похлопотать у князя о месте. Михаил Александрович с обычным своим добродушием не помня старого зла хлопотал о нем, и через его ходатайство тот получил место председателя казенной палаты в Тобольске, где потом и умер. Во время же продолжительной болезни Т-ова никто так часто не навещал больного, как тот же всегда добрый и любящий Михаил Александрович. Покорность Провидению в нем была безграничная; никогда он не жаловался и всегда старался с благодушие христианским принимать все тяжелые посылаемые Богом испытания, выражая лишь свою скорбь словами: «Верно так угодно Богу». За то же и любили его все знавшие его, уважали и ценили его дружбу и внимание.
Обыденная жизнь Фонвизиных была такого рода. Михаил Александрович обыкновенно вставал рано, долго молился, потом пил кофе, приготовляемый Матреной Петровной или так называемой «няней», которая разделяла с ними их сибирскую изгнанническую жизнь и которую как они сами, так и все их товарищи уважали и любили. Она занималась хозяйством и весь дом был на ее руках. Любимым местом Михаила Александровича был большой турецкий диван, где он покойно расположась с трубкой пил свой кофе. В это время няня часто служила ему приятной собеседницей. Вспоминалось и перебиралось с нею о многом прошлом, о милой Москве, о дорогих сердцу детях, о нежном брате, о возможности свидания с ними! Потом Михаил Александрович занимался чтением, любил переводить с немецкого, писал свои записки, читал журналы.
Наталья Дмитриевна большую часть утра посвящала своим собственным занятиям: молилась, читала, писала свои духовные заметки и только к обеду выходила из своей комнаты. Любимым временем для ее занятий было утро и ночь. Обедали часа в три. Михаил Александрович сам всегда заказывал обед и настолько хорошо знал кулинарное искусство, что часто посредственный повар, поступавший к ним, под его руководством делался отличным. Вечером же обыкновенно к ним собирались товарищи. Меня большею частью отец, отправляясь в присутствие, завозил к ним на целый день и Михаил Александрович хлопотал, чтобы были заказаны любимые мною блюда к обеду. Вообще он ужасно любил побаловать во всем своих любимцев, как баловал своих воспитанников и воспитанниц. День своих именин Наталья Дмитриевна не любила праздновать и избегала поздравлений, почему и уезжала постоянно в этот день куда-нибудь в деревню. В подобных случаях я была всегдашней их спутницей; накануне за мной посылался экипаж, и рано утром Наталья Дмитриевна, Михаил Александрович, Николай Знаменский, маленькая воспитанница Паша, я и няня, с запасом приготовленного холодного обеда и различных угощений, отправлялись иногда верст за 20 праздновать именины. Нередко езжали на Кучумово Городище, где погиб Ермак Тимофеевич, покоритель Сибири.
На разостланном ковре вокруг кипящего самовара рассаживались все мы и распивали прежде всего чай и кофе. Потом отправлялись гулять по живописным местам прежнего обиталища Кучума близ теперешнего села Преображенского, которое стоит на крутом берегу реки Иртыша, обвивающей точно голубая лента окружные горы с их величавыми соснами. Бродя по полям и лесам то набредем иногда на целое брусничное поле, красное как кумач, которой в Сибири необыкновенное изобилие, то отдыхаем под тенью столетних кедров, покрытых ореховыми шишками. У кедра есть какой-то свой особенный шелест, который и без малейшего ветерка таинственно точно нашептывает о своем вековом могуществе. После продолжительной прогулки мы усаживались опять на ковер, где ожидал нас приготовленный обед. Утолив голод и закусив разными сластями мы возвращались поздно вечером домой.
Когда в храмовый праздник той церкви, прихожанами которой были Фонвизины, случалось служить архиерею, огни всегда приглашали его со всеми служащими, архимандритом и кафедральным протоиереем к себе на великолепный обед. Уха из свежим стерлядей играла первую роль, и обед отличался самыми вкусными постными блюдами и лучшими выписанными из Москвы винами. Кафедральный протоирей Фелицын любил хорошо покушать и для Михаила Александровича было первое удовольствие угощать его, подкладывая и подливая ему всевозможных яств и питий. Весельчак Фелицын любил тоже поострить и, плотно покушав, восклицал: «Помилуйте, батюшка Михаил Александрович, да это в царствии небесном так хорошо нас не покормят!». Михаил Александрович с некоторыми архиереями был даже дружен, особенно с чахоточным архиепископом Афанасием, который скончался в Тобольске.
Афанасий был очень учен и большой философ, особенно занимался археологией; но к несчастью философские идеи затемнили у него несколько ясность евангельского учения; однако, будучи все-таки хорошим человеком, он мучился сильно некоторыми сомнениями. Дружба же с Михаилом Александровичем, постоянные беседы, веденные с силой убеждения, его прямая твердая вера разоблачали ему ложь философских взглядов относительно божества настолько, что преосвященный, томясь предсмертной агонией, благодарил Михаила Александровича, навещавшего его каждый день во время предсмертной его болезни, за разъяснение мрака лживой философии и укреплении в основах истин божественных. Умирая, он благословил его иконой.
В Тобольске из поселенных там декабристов составился довольно обширный кружок. У большей части из них были свои дома. У Александра Михайловича Муравьева был прекрасный дом с большим тенистым садом; он еще в бытность свою близ Иркутска в селе Урике женился на одной гувернантке немке, Жозефине Адамовне Брокель, очень милой и образованной, которую любил страстно. У них было четверо детей, три дочери и сын, любимец отца, мальчик замечательно способный и милый, они воспитывали своих детей очень тщательно и выписывали из России гувернанток. Муравьев был богаче других потому, что мать его, Екатерина Федоровна Муравьева, жившая постоянно в Москве, перевела всю следуемую ему часть имения на деньги, что составляло около 300 тысяч серебром, и посылала ему с них проценты, на которые он мог жить в Тобольске весьма хорошо. У них часто устраивались танцевальные вечера, сначала детские, а после, когда дети подросли, то и большие балы и маскарады, на которые приглашалось все тобольское общество начиная с губернатора и других служащих лиц. У них всегда много веселились, они были вообще очень радушные и любезные хозяева, умели своим вниманием доставить каждому большое удовольствие. На лето они обыкновенно нанимали верст за 10 от Тобольска в прекрасной живописной местности при мужском монастыре именуемом Ивановским большой каменный дом. Туда к ним часто приезжали знакомые из Тобольска отдохнуть немного на свежем чистом воздухе. Местность в Ивановске была чудесная; высокие горы с крутыми обрывами и лощинами, на дне которых росли столетние сосны, придавали еще более величественности и грандиозности и без того замечательному по своей красоте местоположению.
С Муравьевыми жил декабрист доктор Фердинанд Богданович Вольф. Они были очень дружны. Так как последний был холост и одинок, то Муравьевы и пригласили его жить с ними. Фердинанд Богданович был искусный доктор, тщательно следил за медициной, к нему все питали большое доверие и в случае особенно серьезной болезни всегда обращались за советом. Он замечателен был своим бескорыстием, никогда ни с кого не брал денег и вообще не любил лечить. Когда он был в Иркутске, то там прославился, вылечив одного богатого золотоискателя, от которого отказались уже все тамошние знаменитости. По выздоровлении своем золотоискатель, признательный доктору Вольфу за спасение, как он говорил, своей жизни, но вместе с тем зная, что тот никогда ничего не берет за визит, послал ему в пакете пять тысяч ассигнациями с запиской, в которой написал ему, что если он не возьмет этих денег из дружбы, то он при нем же бросит их в огонь. Денег все-таки Фердинанд Богданович не взял.
Семейство Муравьевых было очень дружно с семействами декабристов Ивана Александровича Анненкова и Петра Николаевича Свистунова (они все трое служили в Кавалергардском полку). Считаю нелишним кое-что рассказать о матери Анненкова. Она была дочь иркутского наместника, якобы очень богатого вдовца, у которого была одна дочь Анна Ивановна. Сколько бы ни являлось женихов он, якобы не желая расстаться с дочерью, отсрочивал свое согласие года на два, на что никто из женихов не соглашался; наконец Анненков решился увезти невесту, и получил прощение отца с условием жить у него. Она была не первой молодости, лет за тридцать. Наконец, она овдовела, имея двух сыновей. Избалованная богатым отцом, она жила в Москве, в своем великолепном доме, окруженная сиротами, воспитанницами и приживалками; вела жизнь своеобразную, вставала поздно, никуда не выезжала, к себе же принимала знакомых, лежа на диване в подушках, разряженная в кружевной пеньюар и в бриллиантах. При ней жила и управляла всем домом дальняя родственница ее Марья Тихоновна Перская. Она была уполномочена распечатывать все адресованные к ней письма и передавать ей только те, которые не могли ее растревожить; поэтому письма от сына из Сибири ей редко сообщались. Перед арестом Ивана Александровича Анненкова он передал дяде своему на хранение 80 тысяч, которые тот себе присвоил; но впоследствии жена Ивана Александровича Анненкова обратилась с просьбой к императору Николаю, который и велел их возвратить. Мать, узнав, что сын обеспечен этой суммой, перестала ему посылать от себя денег.
Из двух ее сыновей старший был убит на дуэли, а другой, Иван Александрович, был сослан после 14-го декабря на каторгу. Когда Иван Александрович был на каторге, то к нему приехала его невеста и Петербурга, выпросив сама лично у императора Николая Павловича на маневрах в Вязьме, куда нарочно ездила, позволение отправиться в Сибирь на каторгу к жениху. Она была француженка по фамилии Ледантю4, но все ее звали Прасковья Егоровна, очень хороша собой замечательно энергична. Когда она подошла к крыльцу, государь садился в коляску и, приняв ее просьбу, назначил ей явиться на другой день. Приняв ее в кабинете, он спросил о причине, заставлявшей ее ехать вглубь Сибири. Она склонив голову, отвечала ему по-французски: «Je suis mere, votre majeste!» Он после ее ответа тотчас дал ей разрешение ехать в Сибирь и пожаловал ей три тысячи на дорогу.
Приехав в Читу она остановилась у бывших там жен декабристов и спустя несколько дней обвенчалась с Ив. Алекс. Анненковым; их венчали в тюремной церкви и кандалы были сняты с жениха только во время венчания, по окончании же их снова надели на него. Она в полном смысле слова обожала своего мужа и в продолжение всей своей жизни не переставала оказывать геройской самопожертвование. Иван Александрович, хотя в гостиной был необыкновенно мил и любезен, но в домашней жизни был нелегкого характера. Прасковья Егоровна старалась во всем до мелочей угождать ему и предупреждать его желания. В тюремной жизни, не имея хорошей прислуги, она сама даже готовила ему его любимые кушанья, обшивала всю семью, всегда была весела и, как француженка всегда беззаботного характера. У них в Тобольске, куда они впоследствии переехали, было 5 человек детей. Сыновья воспитывались в Тобольской гимназии (один из них, Владимир Иванович, теперь председатель окружного суда в Самаре), а дочери — дома. У них был тоже свой, весьма хороши дом в Тобольске, где собиралась молодеешь и танцевала под фортепиано. Я с старшей их дочерью, Ольгою, в продолжении всех 16 лет проведенных вместе в Тобольске, была очень дружна. Там вообще был недостаток кавалеров, с переходом же главной квартиры генерал-губернатора в Омск, вся военная молодежь перебралась туда, остались только служащие статские чиновники при губернаторе, так что если б не общество образованных поляков, то отсутствие на балах кавалеров было бы очень заметно. Губернаторы тоже старались, как могли веселить общество. В прекрасном губернаторском доме часто давались балы и устраивались нередко музыкальные вечера, в которых участвовали иногда приезжавшие артисты из Москвы и Петербурга: певцы, пианисты и скрипачи. Помню хорошо Малера, давшего великолепный концерт на фортепиано; но всех замечательнее из них была m-ll Христиани дававшая концерты во Франции и Германии с большим успехом. Решилась она поехать в Сибирь, вероятно, желая испытать новые впечатления. Она пленила нас в Тобольске не только своею восхитительною игрою на виолончели, но и своею любезностью и игривостью ума. Узнав, что супруга генерал-губернатора графа Муравьева-Амурскаго француженка, Христиани поехала в Омск и так понравилась графине Муравьевой, которая сопровождала всегда своего мужа в объездах ввереннаго его управлению обширнаго края, что она предложила Христиани сопутствовать им. Путешествие было очень трудное, пришлось тащиться верхом в Охотск и Камчатку; доехав до Петропавловскаго порта, они встретили там французское купеческое судно. Графине Муравьевой пришла мысль посоветовать Христиани дать концерт. Восторг и удивление французских матросов были неописанные. Возвратившись в Тобольск, Христиани живо и игриво разсказывала нам о своем путешествии. Из Сибири она отправилась на Кавказ, где наканун своего концерта скончалась от холеры.
Граф Муравьев-Амурский был человек необыкновенно энергичнаго и предприимчиваго характера, отличался удивительною вежливостью со всеми своими подчиненными, не терпелъ и преследовал взяточничество и хотя был очень вспыльчиваго нрава, но не менее того справедлив и добр, и так умел привязать к себе служащих, что они готовы были пойти за него в огонь и в воду. Со всеми декабристами он был на дружеской ноге. Будучи генерал-губернатором, проезжая в Иркутск, он останавливался по дороге в Ялуторовске на несколько часов нарочно для того, чтобы видеться с поселенными там декабристами, а приехав в Иркутск сам первый делал всем им визиты.
У П. Н. Свистунова, как любителя и хорошего музыканта, были назначены по понедельникам музыкальные вечера, на которых устраивались квартеты; некоторые молодые люди играли на скрипках, молодые же барышни на фортепиано, и все заезжие артисты находили у него всегда радушный прием и сочувствие к их таланту. Он принимал в них самое деятельное участие, хлопотал и помогал им в устройстве концертов, раздаче билетов и, будучи весьма уважаем и любим в Тобольске, был очень полезен для бедных артистов, которые в далекой стране не знали, как и благодарить его за помощь.
П. Н. Свистунов был отлично образованный и замечательно умный человек; у него в характере было много веселого и что называется по-французски caustique (едкости, остроты), что делало его необыкновенно приятным в обществе. Несмотря на то, что живостью и игривостью ума он много походил на француза, ум у него был очень серьезный; непоколебимая честность, постоянство в дружбе привлекали к нему много друзей, а всегдашнее расположение к людям при утонченном воспитании и учтивости большого света располагало к нему всех, кто только имел с ним какое-либо общение.
По назначении губернатором Тихона Федотовича Прокофьева последний с большим рвением заботился об учреждении женской школы, и после многих трудов ему удалось наконец открыть Мариинскую школу в Тобольске. Он пригласил П. Н. Свистунова содействовать ему в устройстве ее и наблюдать за ходом учения и за расходами по заведению. После Прокофьева поступил губернатором Виктор Антонович Арцимович, принявший самое живое участие в этом заведении, которое благодаря его заботам и при содействии того же П. Н. сделалось образцовым.
По возвращении из Сибири П. Н. вступил во владение переданной ему братом части родового имения в Калужской губернии и был выбран дворянством Лихвинского уезда в члены комитета по освобождению крестьян от крепостного права. Тут посчастливилось ему приложить свою трудовую лепту к делу, составлявшему предмет его сердечных желаний с самой молодости. Затем он был назначен от правительства членом присутствия по крестьянским делам, которым и состоял в продолжение двух лет под председательством переведенного из Тобольска в Калугу губернатора В. А. Арцимовича. По назначении последнего сенатором П. Н. вышел в отставку и поселился на житье в Москве.
Вежливость во всех так называемых декабристах была как бы врожденным качеством. Высоко уважая в людях человеческое достоинство, они были очень ласковы со всеми низшими и даже с личностями, находившимися у них в услужении, которым никогда не позволяли говорить себе «ты». Подобное отношение к слугам привязывало их к ним, и некоторые доказывали своей верностью на деле всю признательность своих сердец, не говоря уже о тех преданных слугах, которые разделяли с самого начала злополучную участь своих господ, как, например, няня Фонвизиных, Матрена Петровна, о которой я уже говорила, все время изгнания добровольно прожила с ними в Сибири и вернулась в Россию тогда только, когда Фонвизины были сами возвращены. Она была замечательна по своей преданности и честности; другая подобная же личность, Анисья Петровна, жила у Нарышкиных; она тоже с начала до конца изгнания не покидала своих господ. Такие личности под конец были уже не слугами, а верными друзьями, с которыми делилось и горе, и радость. У Свистуновых долго не было детей. Когда же родилась дочь Магдалина, то они любили и баловали ее донельзя, особенно отец, который сам воспитывал и учил ее. Вскоре после нее родился сын Иван и дочь Екатерина в Тобольске, потом в Калуге еще младшая дочь Варвара.
В Тобольске Свистуновы прожили тоже лет 15 и со всеми были постоянно в хороших отношениях. Губернаторша Энгельке очень любила П. Н. Он часто участвовал на ее музыкальных вечерах. Вообще губернаторы и другие чиновники относились ко всем декабристам с большим уважением, всегда первые делали визиты и гордились их расположением к себе. Со Свистуновыми жил один из товарищей, декабрист Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин, у него был брат Николай Сергеевич, умственно расстроенный, с которым сначала они жили вместе, но раздражительность последнего наконец дошла до такой степени, что не было никакой возможности с ним жить, иногда случалось, что он в припадке бешенства, несмотря на всю любовь свою к брату, при малейшем его противоречии, бросался на него и замахивался тем, что попадалось ему под руку; однажды он пришел в такое раздражение, что бросился на брата, изломал об него чубук от трубки, которую курил в то время. Свистунов, будучи дружен с П. Сер., предложил ему комнату у себя в доме. Николай же Сергеевич остался в отдельной квартире.
Личность Павла Сергеевича Бобрищева-Пушкина была замечательна по его глубоко религиозному чувству; он в полном смысле был христианин и словом и делом; вся жизнь его была одним выражением любви к ближнему и посвящена была на служение страждущему человечеству. Он был не женат, светских удовольствий удалялся, избегал новых, неподходящих к его душевному настроению людей, хотя и не чуждался никого. Он, как человек хорошо воспитанный, старался сохранить приличия общественной жизни; но никогда им рабски не покорялся, казался даже в некоторых случаях оригиналом, одевался несколько своеобразно. Будучи слабого здоровья, очень боялся холода, почему и сочинял себе иногда особенные костюмы; но, несмотря на его уклонения от светских обычаев, его все любили, как богатые, так и бедные, высокопоставленные и низко стоящие люди. Родители его были почтенные и очень благочестивые помещики Тульской губернии, особенно отец его был необычайно стойкого и благородного характера, глубоко верующий и строгих правил человек, всеми уважаемый, имея много детей, воспитывал их в благочестии; двое из его сыновей, Николай и Павел Сергеевичи, вступив в тайное общество, разделили общую участь своих товарищей в Сибири. Заключение в каземате, как рассказывал нам сам П. Серг., имело превосходное влияние на развитие его духовной стороны. Он только там вполне постиг всю пустоту суетной мирской жизни и не только не роптал на перемену своей судьбы, но радовался, что через страдание теперешнего заточения Господь открыл ему познание другой, лучшей жизни. Внутреннее перерождение оставило навсегда глубокий след в его душе. Находясь в каземате, он радовался и воспевал хвалу Господу за Его святое к нему милосердие. Посвятив свою жизнь на служение ближнему, он старался во многом изменить свои привычки, любил читать Св. Писание, которое знал не хуже настоящего богослова, вел жизнь почти аскетическую, вырабатывая в себе высокие качества смирения и незлобия, ко всем был одинаково благорасположен и снисходителен к недостаткам других. В Тобольске он занимался еще изучением гомеопатии и так много помогал своим безвозмездным лечением, что к нему постоянно стекался народ, особенно бедный. П. Сер. так наконец прославился своим гомеопатическим лечением, что должен был завести лошадь с экипажем, чтоб успеть посещать своих пациентов. Лошадь была маленькая, которую мы прозвали Конек-Горбунок, летний экипаж вроде бюль-бери, на четырех колесах, а зимний-одиночные сани. В них укладывались гомеопатические лечебники, аптечка, выписанная из Москвы, запасная одежда на случай внезапной перемены погоды, зимой лишняя шуба, а летом теплая на вате суконная шинель, которая никогда не покидала своего хозяина в его экскурсиях (тобольский климат был очень изменчив, случалось в один и тот же день то холод, то сильная жара); когда было все уложено, то выходил и садился в экипаж сам Павел Сергеевич плотно укутанный не только зимой, но даже и летом, брал вожжи в руки и отправлялся на помощь больным. Всюду, куда он только ни приезжал, везде его встречали с радостью, всем и каждому подавал он утешение добрым словом, сердечным участием, хорошим советом. Он был очень развитого ума, начал свое образование в Москве в дворянском пансионе, закончил же его в известном заведении Николая Николаевича Муравьева, где готовились в офицеры Генерального штаба. П. С. был при случае и архитектором, и столяром, и закройщиком. Нужно ли кому план составить - обращаются к П. С., дом ли построить, или сделать смету - он своею математическою головою разочтет все верно до последней копейки. Он был в особенности дружен с Фонвизиными, Свистуновыми и с нашим семейством. Мы, бывшие еще детьми, так любили его, что, когда выросли, смотрели на него как на самого близкого, родного. Бывало, захворает ли кто из нас, сейчас шлем за П. С., и он тотчас же катит на своем Коньке-Горбунке.
Отец мой очень любил и уважал П. С. и удивлялся его постоянному самоотречению. Он отлично знал всю службу церковную, часто в церквах читал за всенощной шестопсалмие, читал всегда отчетливо, с большим выражением и чувством, так что каждое слово невольно запечатлевалось в слушателях.
Когда в Тобольске в 1848 году была холера, то П. С., забывая себя, помогал своею гомеопатиею всем и каждому. Только, бывало, и видишь, как в продолжение дня разъезжал Конек-Горбунок с одного конца города на другой со своим неутомимым седоком. Потребность в помощи была так велика, что даже Фонвизины и Свистуновы, по наставлению П. С., лечили в отсутствие его приходящих к нему больных в эту тяжелую годину. Молодые годы моей жизни, проведенные в Сибири, останутся навсегда неизгладимыми в моей памяти; они полны воспоминаниями самыми светлыми от сближения с детства моего с людьми не только даровитыми и развитыми умственно, но и глубоко понимающими высокую цель жизни человека на земле.
Глава 4
В. В. Непряхина. — Несчастное семейство. — Миссионер-архимандрит Макарий. — Татьяна Филипповна. — Построение церкви в селе Подрезове. — Дешевизна жизни в Сибири. — Прислуга из ссыльных. — Посещение острога. — Убийца княгини Голицыной Зыков. — Ссыльные поляки. — Цепные арестанты. — Участие мое и Н. Д. Фонвизиной в участи ссыльных поляков. — Ночная поездка в острог. — Исповедь Зыкова. — Его сибирские похождения.
В круг наших тобольских друзей, кроме декабристов, входили и другие прекрасные личности; не могу не упомянуть о наиболее выдающейся из них, именно, о нашей хорошей знакомой Екатерине Федоровне Непряхиной, которая была олицетворенная доброта и любовь к Богу и человеку. Она жила со старушкой матерью и сестрой в своем собственном доме на горе; отец ее когда-то служил в Тобольске инспектором врачебной управы. После его смерти у них осталось порядочное состояние.
По своему любящему сердцу она, если могла кому-нибудь пмочь ни в чем не отказывала. Она была ученицей или вернее духовной дочерью известного алтайского миссионера-архимандрита Макария5 и была даже им тайно пострижена в монахини, по благословению московского митрополита Филарета, лично ее знавшего. Имея на руках престарелую, впавшую в детство, старушку мать и все хозяйство, она не могла, не смотря на свое влечение, удалиться от людей и идти в монастырь для служения Богу, почему по благословению архимандрита Макария оставалась монахиней тайною от свита, носила полумонашескую черную одежду и исправляла, конечно, дома все монашеская келейные правила, ходила каждый день в церковь, призревала разных бедных девочек-сирот, учила их и впоследствии отдавала замуж. С ней жила одна ее приятельница, женщина больная и раздражительная. Екатерина Федоровна, совершенно забывая себя, ухаживала за ней, исполняла все ее капризы и требования с удивительным терпением, и старалась извинять все ее капризы, скорее обвиняя себя в неумении хорошо ходить за больной. Получив хорошее образование и от природы очень умная, она имела много друзей и в бытность свою в Москве еще при жизни своего отца, в Москве, подружилась очень с Нарышкиными Варварой Михайловной и Маргаритой Михайловной, известной потом Бородинской игуменьей, и вела с ними постоянную переписку. Екатерина Федоровна была также очень дружна с Натальей Дмитриевной Фонвизиной. В ее красивом лице выражалось что-то ангельское, доброе и приветливое. Как-то раз мне случилось по ее просьбе собрать несколько денег для одного несчастного семейства, лишившегося отца, единственного кормильца. Мы поехали вместе с ней к беднягам, чтоб передать собранные вещи и деньги. У ворот большого, запустелого, необитаемого дома, нас встретили только собаки и никто не ответил на наш стук в запертую калитку; подождав немного, мы решились отворить ее сами, вошли на большой, пустынный, поросши сухой травой двор и по чуть-чуть извивающейся тропинке, ведущей к одному, тоже почти разрушенному, флигелю, наконец, добрались до дверей убогого жилища несчастной семьи. Стояла глубокая осень; мелкий дождь бил в лицо, холодный, порывистый ветер бушевал, поднимая и неся сухой лист по заросшему двору. Когда мы отворили незапертую дверь, нам представилась поражающая картина нищеты. Небольшая холодная комната с русской печью, на которой сидели и валялись маленькие ребятишки. В углу на лавке, на жестком войлоке, прикрытая изорванным одеялом, лежала бледная и исхудалая еще молодая женщина; вокруг нее суетились ее две старшие девочки в оборванных платьях. Несчастная женщина так была истощена болезнью и, как мы узнали после, голодом, что при неожиданном нашем появлении не выказала даже сначала никакого удивления; когда же мы приблизились к ней, стали ее расспрашивать и раздавать хлеб, яйца и другие съедобные припасы собравшимся вокруг нас маленьким голодным ее детям, а ей самой дали прежде всего проглотить несколько вина, то несчастная зарыдала, хотела говорить, но удушающий чахоточный кашель не давал ей возможности выговорить слово. Отдохнув немного, она, прерываемая беспрестанно сухим кашлем, умоляла нас не оставлять несчастных ее сирот, не знала как нас благодарить, целовала наши руки, называя Екатерину Федоровну ангелом-утешителем. Правда, в эту минуту она для несчастной страдалицы была точно ангелом посланным с неба. Никогда не забуду того умирающего, полного любви и признательности взгляда больной женщины, каким проводила она нас. На третий день после нашего посещения, несчастная мать отдала Богу душу мирно и покойно, поручив своих сирот доброй Екатерине Федоровне, которая и устроила их всех впоследствии по разным заведениям. Екатерина Федоровна, несмотря на свои уже не молодые лета, по со-вету о. Макария принялась изучать французский язык под руководством П. Н. Свистунова, который отлично его знал и любил преподавать его; в то же время и я занималась у него, и мы с Екатериной Федоровной вместе ездили к нему на уроки, разумеется, не как к учителю, но как к хорошему знакомому. Екатерина Федоровна часто шутила над собой, говоря: «Вот как Господь смиряет меня старуху, поставив в ученицы на ряду с молодыми!»
Упомянув об отце Макарии, считаю уместным сказать об этой замечательной и редкой личности все то, что имела случай об нем узнать. Он много лет состоял миссионером в Алтайских горах, где обратил в христианство более тысячи иноверцев-кочевников, которых привел к оседлой жизни; они основали несколько деревень, где о. Макарий 5 учредил школы мужские и женские. Ему два раза предлагали быть архиереем, но он, не желая расстаться с миссией, которая так близка была его сердцу, предпочел остаться архимандритом-миссионером. Не имея средств выстроить храм, он должен был довольствоваться походкою церковью и несказанно радовался, видя ревность и любовь новообращенных; но скоро он подвергся горькому испытанию; как только местный откуп узнал о существовании походной церкви, то вздумал воспользоваться своим правом и ввести в это селение продажу вина. До крайности возмущенный этим, о. Макарий решился обратиться к императору Николаю Павловичу, прося избавить от соблазна тех, которых он привел ко Христу своею проповедью. Государь нашел письмо о. Maкария дерзким и приказал св. Синоду удалить его в Соловецкий монастырь. Св. Синод, высоко ценя услуги оказанные церкви о. Макарием, упросил государя удовольствоваться в этом случае одним строгим внушением. Помимо его подвижнической жизни, он предпринял огромный труд перевода Библии на русский язык; не ограничиваясь основательным, изучением еврейского, греческого и латинского языков, он счел необходимым ознакомиться с существующими переводами, дабы сличить их с подлинником и убедиться в правильности перевода; для этого пришлось ему изучить немецкий, французский и английский языки, так что перевод его потребовал лет двадцати времени. Окончив без всякой посторонней помощи этот колоссальный труд, он представил его св. Синоду, ходатайствуя о разрешении обнародовать его путем печати, на что св. Синод не согласился; по случаю этого отказа о. Макарий сказал прочувствованную речь, в которой упрекнул св. собрание в отступлении им от святого долга, высказав какую ответственность принимают они пред Богом, лишая свою паству духовной пищи, какой лишена она уже столько веков. Перевод свой, по желанию покойного московского митрополита Филарета, он передал сему последнему на хранение.
Ему обязательно нужно было приезжать раза два в года в Тобольск для приобретения всего необходимого для походной церкви и двух устроенных им школ. Эти поездки дали мне случай познакомиться с ним у его духовной дочери Екатерины Федоровны Непряхиной. Он избегал всякого нового знакомства; но по неотступной просьбе Екатерины Федоровны в 1845 году согласился быть в двух домах, Фонвизиных и Черепанова, тогдашнего прокурора, который из светского человека сделался христианином, и Екатерина Федоровна надеялась влиянием о. Макария утвердить его в колеблющейся вере. Замечательна была простота его обхождения, так что не будь на нем монашеской рясы, его можно было бы принять за мирянина; одним лишь резко отличался он от мирских людей: какой бы пустой не начался разговор, он от него не уклонялся, но, приступая к нему, тотчас же обращал его в духовную беседу, в которой речь его лилась так плавно, обильно и назидательно, что трудно было оторваться от нее. Он провел один вечер у Фонвизиных, где, кроме хозяев, находилось еще несколько человек самых близких, и с 8 часов вечера до 4-х часов утра, когда зазвонили к утрени, он не переставал говорить на избранный текст св. Евангелия от Иоанна без перерыва. Все присутствущее были как бы прикованы силою его речей и поражены неутомимостью тщедушного старца. На этом вечере, равно и у Черепановых, он удивлял всех своею прозорливостью, несколько раз проявившеюся в внезапных обличениях тут присутствующих, как бы помимо его воли. Встреча с такою редкою личностью оставляла навсегда глубокое впечатаете в душе слушавших его. Его преклонные лета (ему было за 60 лет) и непосильный труд; несенный им продолжительное время, заставили его искать покоя. По просьбе его, он был переведен в Болховский монастырь Орловской губ. Истощение физических сил понудило его просить св. Синод разрешения устроить домовую церковь при его келье. Не получив на это разрешения, он служил у себя всенощную, куда сходился весь город; по окончании службы, он садился на складной стул и приступал к духовной беседе, продолжавшейся за полночь; во избежание утомления слушателей он приглашал их присесть на пол и пока он не умолкал, никто не двигался с места. Он до того возбудил во всем обществе доверие и любовь к себе и рвение к благотворительности, что несколько дам посвятили себя на дело миссионерства и отправились на Алтай для заведывания школами и преподавания детям грамоты и слова Божия. Он давно мечтал о поездке в старый Иерусалим, в чем ему было отказано от духовного начальства; наконец, он получил на то позволение, но не мог им воспользоваться, схватив вследствие простуды воспаление, повергшее его на смертный одр. Не могу пройти молчанием еще одной из ряда выходящей личности, нашей общей любимицы, так называемой Татьяны Филипповны. Она была простая крестьянка, в молодости сбившаяся было с истинного пути, но познакомившись с одним молодым чиновником землемёром, привязалась к нему страстно и вышла потом за него замуж и изменила совершенно свою прежнюю жизнь. Муж ее оказался очень дурным человеком, вечно пьяный, буйный или, как называют подобных людей, «озорник». Сначала он был с ней хорош, а потом стал дерзко обращаться, бил и мучил ее ужасно. Она увидела в этом карающую руку Божию за ее прежнюю дурную жизнь, смирилась, покаялась и так прилепилась любовью к Господу, что с великой радостью стала переносить разные истязания от мужа, которого не переставала любить, молиться за него и прощать все наносимые ей обиды. Господь, видя смиренную покорность ее сердца, вскоре освободил ее от него, и она, оставшись бездетною вдовой, посвятила себя окончательно на служение Богу, удалилась в свою родную деревню Подрезово, верстах в 25-ти от Тобольска, выстроила у своего брата на конце огорода маленькую избушку в 3 арш. длины и ширины (сама собственными руками рубила и возила лес), украсила ее иконами и разными святыми изображениями, приобрела себе Евангелие и Псалтырь, вместо постели имела деревянную скамью с войлоком, начала подвизаться и иногда проводила целые ночи в молитве; но в ней не было ни малейшего ханжества, напротив, она всегда оставалась веселой и довольной и никогда неунывающей. Живя совершенно одиноко, далеко от людей, она ничего не боялась, хотя в Сибири и небезопасно от беглых, но она даже на ночь никогда не запирала дверь. Имея простую, детскую веру в Господа, она находила, что Он сумеет ее охранить от всех встречающихся. Случайно познакомившись с Фонвизиными и со всеми нами, она очень скоро внушила нам к себе любовь и стала часто из деревни приходить в город и всегда останавливалась и гостила по нескольку недель у кого-нибудь из нас. В деревне, где она жила, не было храма, что ее очень огорчало и вот она задумала с Божьей помощью и добрых людей построить храм, много молилась об этом и, наконец, решилась. много молилась об этом и, наконец, решилась. «Как же ты будешь строить его, не имея ни копейки денег?» — говорили ей все её знакомые. «А у Господа разве мало их, захочет, так и даст! расположит сердца, и явятся жертвователи!» — отвечала она с горячей верой. Архиерей, узнав, что у неё нет запасного капитала для построения церкви, не давал на то разрешения, но М. А. Фонвизин сообщил преосвященному о её глубокой вере и выпросил у него разрешение. И точно, её вера вскоре оправдалась: по её живому настоянию все приняли большое участие в этой постройке... Кто чем мог, тем и помогал: Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин сделал смету, составил план, сам следил за работами и был настоящим архитектором; Н. Д. Фонвизина написала сама иконы масляными красками для иконостаса, многие же другие жертвовали разными необходимыми вещами для церкви. Отец мой взял на себя самую трудную обязанность сбора денег, и Господь, видимо, помогал ему, жертва росла не по дням, а по часам; собрано было в короткое время тысяч пять ассигнациями (тогда ещё в Сибири считали на ассигнации), так что через год церковь была окончена. Татьяна Филипповна радовалась и прославляла Бога. Наконец, желанный час для неё настал, назначили день освящения церкви. Фонвизины, Свистуновы, Бобрищев-Пушкин, наше семейство — все мы накануне освящения храма отправились водою по Иртышу в большой нанятой лодке за 25 верст в деревню Подрезово. Завидев издали блестевший на солнце крест над вновь воздвигнутой общими трудами церковью в далеком захолустье, невольно у всех радостно забилось сердце. Вся деревня вышла нам навстречу и восторженно нас приветствовала.
Мы разместились на ночлег в избах братьев Татьяны Филипповны. Наконец, была отслужена всенощная с певчими, а на другой день состоялось и самое освящение; торжество было очень трогательное, народу собралось со всех окружных деревень множество; все со слезами на глазах благодарили жертвователей и соорудителей храма в столь отдаленной местности. В Сибири, по огромному её пространству, большой недостаток в церквах; приход тянется иногда на протяжении 200 верст, так что часто дети умирали некрещеными и умерших погребали без отпевания, и только когда приезжал священник в деревню, то отпевал всех похороненных над могилами общим отпеванием.
После освящения, сказано было прочувствованное слово, в котором указывалось именно на необходимость храма в этой глухой местности. После молебствия, пропето было многолетие первой, зачавшей это святое дело, Татьяне Филипповне, а потом и всем строителям и жертвователям. Небесною радостью сияло ее лицо и ручьями текли слезы умиления во все время богослужения. По окончании торжества, она подошла к нам и от избытка чувств поклонилась всем в ноги. «Не правда ли,— воскликнула она, — что Господу все возможно, не чудо ли Его благости этот храм, воздвигнутый без залежной (как она выражалась) копейки!» После обеденного угощения возвратный наш путь состоялся тем же порядком. Все население провожало нас с благословениями и благими пожеланиями. Мы вернулись в Тобольск к утру другого дня вполне довольные своим путешествием.
Кончина Татьяны Филипповны была тем замечательна, что была предсказана ей заранее: «когда она увидит остановившейся пред ее окном гроб, то значит конец ее настал». Так и случилось: везли покойника на кладбище; запряженная в розвальни деревенская лошадка застряла в сугробе пред окном Татьяны Филипповны. После этого она тотчас же отправилась в город проститься со всеми знакомыми и, объявив, что больше их не увидит, поехала в соседнюю деревню, где жили ее родственники, объявить и им о своей неминуемой смерти. Она приехала туда вечером, а ночью у них скончалась без всякой болезни 12 марта 1855 года.
Если бы не отдаленность края, то жизнь в Сибири при том изобилии, которым пользовались тогда тамошние жители, давала гораздо больше спокойствия душевного и менее страха за будущее, чем здесь в России. Там всякий трудящийся, получая небольшое содержание, мог жить весьма порядочно. Я помню нашу жизнь. Отец, будучи уже прокурором в Тобольске, хотя и получал сравнительно с теперешними окладами гораздо меньше, но жил, правда с аккуратностью, очень комфортабельно; занимал прекрасную квартиру, держал лошадей и экипажи чуть не с полдюжины. Часто здесь в России слышишь с каким ужасом говорят о сибирских морозах; но при 40° градусном морозе туман и тишина смягчают его так, что он не бывает очень чувствителен. Градусов же в 20-ть было наше любимое катанье в санях, обитых внутри медвежьим мехом и закрытыми такими же полостями, вследствие чего холод не казался нам таким сильным. Прислугу выбирали прямо из ссыльных. По понедельникам всегда приходила пария ссыльных в Тобольск и уже тобольское управление распределяло их по волостям и городам на жительство. Когда кому был нужен повар или кучер, кухарка или горничная, то при приходе парии справлялись нет ли таковых и если находились, то их выбирали и приписывали на поселение к городу, чем они очень дорожили. Ссылаемые люди по воле помещика были больше все из дворовых, почему многие из них, не зная сельских работ, предпочитали оставаться в городе. Плата им была положена общая для всех; мужчинам красненькая, женщинам синенькая, конечно ассигнациями. Очень часто из ссыльных выходили прекрасные люди; но иногда попадались и дурные, которых тотчас перечисляли и отправляли по волостям. Нередко удивляло нас, как могли ссылать таких прекрасных слуг, какие нам попадались в Сибири. Никогда не забуду одну девушку, горничную, прекрасную портниху, сосланную по воле помещицы графини Строгоновой из Петербурга. Она жила несколько лет у нас в Тобольске и, кроме самого хорошего как про характер, так и поведение ее, ничего дурного нельзя было сказать; всегда усердная, добродушная, отлично знающая свое дело, только постоянно грустная. Она очень любила своих родных и разлука с ними была для нее слишком тяжела, так что под конец она впала в чахотку и умерла в далекой чужбине. Я принимала в ней большое участие; писала ей письма к ее родным и получала на свое имя ответы от них; они часто присылали ей засушенные цветочки с родной стороны, и она бедная бывало обливала их горючими слезами. Ссыльным запрещена была переписка с родными из опасения, чтобы от дурных помещиков не стали убегать они в Сибирь. Я любила ездить с отцом в острог к обедне. Небольшая церковь вмещала скованных арестантов; каждый звук их цепей при молитвенном коленопреклонении раздирал у меня сердце; невоможно было без сострадания видеть этих злополучных, которые все-таки, как казалось мне, томясь, искупали тяжким крестом свои погрешности. При выходе из церкви они стояли всегда рядами и, проходя мимо их, я старалась как только могла приветливее и с любовью хоть взглядом выразить им мое сочувствие. Мое молодое сердце находило какую-то особенную поэзию быть посреди этих отверженцев мира и выказывать им, что и они не чужды любви и состраданья. Однажды, пришлось мне вынести раздирающее впечатление от посещения так называемого цепного отделения. Это происходило таким образом: начну с того, что в то же время в тобольском остроге содержался известный убийца, некто Зыков, молодой послушник Донского монастыря, убивший из ревности княгиню Голицыну в Москве. Его история много наделала тогда шуму и многие из высшего общества принимали в нем горячее участие, особенно московские дамы. Не буду описывать истории его убийства, она слишком известна, но скажу только про его личность и пребывание в тобольском остроге (из Москвы многие писали и ходатайствовали за него). Мать его хлопотала, чтоб его по болезни оставили в Тобольской губернии на заводах, но ее просьба, за важностью преступления, не была уважена. Когда Зыков был прислан в Тобольск, то отец мой, служа тогда прокурором и посещая острог, заинтересовался им очень. Его молодость и болезненное состояние (он страдал астмой) расположили к нему отца на столько, что он принял в нем живое участие, выхлопотал, чтоб его оставили на зиму в Тобольском остроге в больнице, где он и пробыл до весны. Рассказы отца о нем возбудили во мне желание его видеть. Когда раз отец предложил мне поехать с ним к обедне в острог и зайти после того к Зыкову, я очень обрадовалась и мы отправились туда. Больничное помещение, где находился Зыков, прилегало к церкви и окно выходило прямо в церковь, так что он мог стоя у него молиться и видеть всю службу. По окончании обедни, мы пошли к нему: я шла с обыкновенными своими чувствами к заключенным, приготовляясь с любовью и состраданием встретить униженного преступника, или, по крайней мере, смиренного узника-убийцу, но каково было мое удивление, когда я увидала пред собою рисующегося и разыгрывающего роль какого-то джентльмена или светского человека в полумонашеском одеянии молодого исхудалого человека. За ширмами, которыми было отделено для него помещенье в огромной комнате больницы, стояли стол, кровать и два стула; он поспешил тотчас же нам их предложить. На стене над кроватью висели маленькие образки, портрет митрополита Филарета и миниатюрный портрет «княгини Веры», как он беспрестанно называл убитую им княгиню Голицыну. На нем сверх одежды надета была серая пуховая косынка, вязаная, как он тоже беспрестанно объявлял, именно для него княгиней. Хвастовство его выражалось преимущественно в рассказах о том, как любил его митрополит Филарет и прочие знаменитости московские, особенно разные княгини и графини, принимавшие в нем участие, несмотря на то, что он убил княгиню Голицыну. Он и мне даже начинал льстить за мои, по Евангельскому учению, как он выражался, посещения тюрем, кривлялся, занимался своими белыми руками, выставляя их напоказ. Одним словом, в лице его я увидела не несчастного злодея, а ничтожного фата, рисующегося даже своим злодеянием. У меня не достало духа сказать ему слово утешения, так сильно охватило меня чувство отвращения к его пустоте, и я поспешила удалиться от него. Он очень хорошо понял, что не произвел на меня желанного эффекта; оскорбленное его самолюбие не могло примириться с фактом, что в далекой Сибири, почти в глуши, раскусили его лучше чем в Москве. Лицемеря пред отцом, но не смея ясно выска¬зать свое негодование, он потом не раз намекал ему на то, что мое посещение тюрьмы было больше из тщеславия, чем по Евангельскому учению, как он говорил мне раньше. Вышедши от него, отец спросил меня, не хочу ли я пройти в секретный каземат, где содержалась только что приведенная партия политических преступников-поляков, состоящая из 14-ти человек. Получив мое согласие, мы отправились дальше; железные решетчатые ворота, отделявшие секретный двор, были заперты на замок; дежурный офицер их отпер, и они растворились перед нами, чтобы только пропустить нас и тотчас же за нами снова сомкнулись. Грустно замерло у меня сердце! На секретном дворе встретилось нам несколько человек в кандалах; это были убийцы, которые, высидев по нескольку лет на цепи, оставляются потом вечно в кандалах и выпускаются на прогулку только по секретному двору. Особенно одна личность бросилась мне в глаза: здоровый, коренастый, высокого роста мужчина, некто Коренев, представлявший тип совершенного разбойника; он загубил душ десять, просидел десять лет на цепи и был оставлен навсегда в кандалах в остроге. Когда мы вошли в секретные казематы, моим глазам представилась следующая картина. В душной, хотя довольно большой, комнате по обеим сторонам нар сидели полулежа в цепях на своих койках заключенные поляки; они все разом вскочили и точно остолбенели при виде вошедшей в их недосягаемые камеры точно сказочной феи, как они сами после мне рассказывали, молодой женщины, по одежде принадлежащей к кругу порядочных людей. Потрясающий звук цепей разом вскочивших четырнадцати человек оглушил было меня совсем, но пока отец разговаривал с некоторыми, я оправилась и обратилась к ним с словами:
— Не имеете ли вы в чем нужды: в чае, сахаре и других потребностях? я с удовольствием исполню, что только могу. Они окружили меня, благодарили кто по-русски, кто по-польски, кто по-французски. Почти все они были люди прекрасно образованные, многие из хороших фамилий. От них мы направились в цепное отделение; там ожидала меня еще более потрясающая картина. Проходя по полутемному коридору, по бокам которого устроены были отдельные в три аршина каморки, я видела, что у притолок каждой из них стояли, точно мертвецы, бледные, исхудалые несчастные заключенные, смотревшие на нас тупым, безжизненным взглядом, как бы спрашивая: «да зачем это вы явились в наши живые могилы?» Внутренность каморки вмещала кровать и деревянную табуретку. Привинченная же одним концом тяжелая цепь в углу каморки, а другим концом к ноге несчастного заключенного, давала ему возможность делать лишь три шага до порога своей каморки. В одной из них лежал больной в водяной и грубая цепь все-таки не выпускала его из своих оков. Повиснув тяжело с ноги несчастного, она лежала частью на полу и при малейшем его движении не давала ему забыться; несчастные так и умирали тут; одна смерть только освобождала их от этих вечных уз. До сих пор, хотя прошло более уже 30-ти лет, не могу без особенно тяжелого чувства вспомнить этих заживо погребенных существ. Когда я слышала рассказы о попытках некоторых из них бежать из тюрьмы, то от всей души сочувствовала им. Приехав обедать с отцом к Фонвизиным, я передала им о моем посещении в остроге поляков и о желании помочь им, тем более, что и отец не был против этого, даже сказал, что не все из них богаты и иные нуждались в необходимом. Фонвизины приняли горячо к сердцу их положение, особенно Наталья Дмитриевна; она пожелала также их посетить, и мы с ней решились поехать в следующее воскресенье вдвоем в острог к обедне, чтоб как-нибудь пробраться к ним. Предварительно же она отправила в острог няню Матрену Петровну со всевозможными продуктами: чаемъ, сахаром, калачами, сухими закусками, и поручила ей, чтоб она как-нибудь предупредила их о нашем предстоящем посещении. Няня, ловкая и опытная по этим делам, добралась как будто с подаянием прямо до нихъ и передала и все, что нужно. Когда мы с Натальей Дмитриевной приехали к обедне в острог, то увидели, что и поляки были тоже в церкви. По окончании службы, выходя, мы сказали им по-французски, что сейчас к ним зайдем. Хотя я и знала, что к политическим преступникам строго запрещено допускать кого бы то ни было; но, смело обратившись к караульному офицеру, сказала:
— Пропустите, пожалуйста, меня с Натальей Дмитриевной в секретные камеры к полякам.
Молоденький офицер смешался, не знал что отвечать.
— Ведь по закону не велено никого допускать к политическим преступникам,— отвечал он нерешительным голосом.
Я поторопилась воспользоваться его замешательством.
— Как, даже и с подаянием? — возразила я ему, — разве вы не знаете, что я в прошлый раз была уже там с моим отцом прокурором, который не хуже вашего знает законы?
Офицер поколебался; мой смелый, решительный тон подействовал на него; в это время подошла новая смена караула, явился другой тоже молоденький, очевидно, только-что произведенный офицерик, с которым первый посоветовался, и, наконец, они решили нас пропустить. Весь этот разговор происходил перед теми же замкнутыми чугунными решетчатыми воротами, отделяющими секретный двор, и мы сквозь них видели отчаяние несчастных поляков при нашем затруднении попасть к ним, а стоявший за воротами на дворе разбойник Коренев, усмехаясь, острил, обращаясь к нам:
— Здесь ведь нужно, сударыни, поставить Богу свечку, а черту две, тогда и сделают.
Что он под этим разумел — не знаю. Офицер велел отворить ворота и сам пошел с нами. Мы торжествовали. Поляки радовались. Разговор наш с ними происходил на французском языке и офицер не понимал его. Поляки очень скорбели, что не имеют возможности писать к своим родным, кроме официальных писем. Мы предложили имънаписать письма, которые взялись переслать. Особенно один из них, граф Стадницкий, очень был огорчен неизвестностью о ходе дела по его конфискованному имению. У него осталась дочь и жена; последней он поручил хлопотат в Петербурге о делах. Он умолял меня, нельзя ли чрез кого-нибудь помимо начальства получить от нее известие. Я сознавала всю опасность для моего отца позволить им переписываться чрез меня, но, полагаясь на милосердие Божие и вверяя Ему это опасное дело, дала свой адрес. Они так были тронуты нашим предложением, что со слезами на глазах бросились целовать наши руки. Провожая нас, они с грустью смотрели нам вслед; вдруг один из нихъ отделился, догнал нас и со слезами в голосе сталъ умолять ломаным русским языком:
— Пане женко, мой письмо тож.
Мы так и обмерли; офицер обернулся к нему; растерявшись в первую минуту, я не знала как и чем отвлечь внимание офицера от него; увидев какое-то загороженное место, спрашиваю офицера: что это такое?.. Он, сконфузившись, мялся и не знал как мне назвать его. Но во время моего глупого разговора с офицером, товарищи успели удержать его и объяснить в чем дело. Оказалось, что он, не зная хорошо французского языка, не вдруг понял наше предложение о письмах; но догадавшись бросился догонять нас и чуть-чуть не испортил дело и не подверг всех нас болышой неприятности.
Положение поляков было тем ужаснее, что подходила зима с суровыми сибирскими морозами, а им предстояло из Тобольска пройти пешком в Иркутскую губернию 3000 верст. Из 14-ти человек только четверо имели хорошия средства, а остальные десять ровно ничего не имели; богатые же ни в чем не помогали своим бедным товарищам. Мы с Натальей Дмитриевной старались пополнить их недостатки, чем могли; она накупила им сапогов, теплых перчаток, шапок, белья и разных необходимых вещей для дороги; я с своей стороны взялась собрать некоторую сумму денег для мелких их расходов въ таком дальнем пути. Все, к кому я обращалась, приняли участие и помогли с любовью в моем сборе, а болыше всех Александр Михайлович Муравьев, так что составилась порядочная сумма.
Трудность состояла только в том, как передать им в руки деньги без участия начальства и как получить от них для пересылки письма к их родным. Поехать снова в острог к обедне и видеть их тем же порядком, не возбудив подозрения, было невозможно. Я долго ломала голову, как это устроить без участия отца, не желая без особенной причины подвергать его ответственности. Одинъ план показался мне более удобоисполнимым, на котором я и остановилась. Смотрителем острога былъ очень скромный, простой чиновник старичок. Он настолько былъ робок, что зная вспыльчивый характер моего отца, приезжая ежедневно с рапортом о состоянии острога и входя со страхом к нему в кабинет, читал постоянно вполголоса молитву: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Я решилась воспользоваться его скромностью; когда однажды он выходил от отца, я подошла к нему с просьбою, чтоб он принял меня с Натальей Дмитриевной Фонвизиной в этот вечер у себя на квартире в остроге. Бедный старик был очень удивлен таким небывалым моим заявлением.
— Пожалуйста, — прибавила я, — сделайте распоряжение, чтоб нас впустили в острог, когда мы приедем.
Он поклонился и ушел. Я же тотчас отправилась обедать к Фонвизиным.
Часов в шесть вечера, мы с Н. Д. уже остановились у ворот острога. Часовой не пропускал нас, но мы сказали, что приехали в гости к смотрителю; тогда часовой, не отворяя ворот, передал об этом другому часовому, стоявшему внутри двора, другой — третьему и так далее, пока не дошло до смотрителя. Разрешение впустить нас передавалось тем же порядком часовыми, почему нам пришлось простоять очень долго на морозе. Темнота ночи и перекличка часовых внутри острога наводили какой-то невольный страх. Наконец, послышались шаги, замки застучали и тяжело заскрипели ворота. Мы въехали на темный двор; кое-где мелькали огоньки, кругом мертвая тишина, нарушаемая лишь мерными шагами часовых. Тяжело, грустно было в этой живой могиле! На пороге своей квартиры встретил нас смотритель. Войдя в комнату, я передала ему цель нашего посещения. «Пожалуйста, устройте нам свидание с заключенными поляками», — обратилась я к нему. — «Да это невозможно, в настоящее ночное время никого нельзя допускать к ним в камеры», — отвечал он мне растерянным голосом. — «Так приведите их сюда, ведь вы имеете полное право потребовать их к себе, когда хотите», — настаивала я. И добрый старичок, не смея отказать просьбе дочери своего начальника, скрепя сердце согласился. Не прошло четверти часа, как страшный звук цепей посреди мрака ночи раздался по двору и нееколько минут спустя пред нами стояли несчастные поляки. Часовые, приведшие их, с ружьями остановились в дверях. Увидев нас, злополучные заключенные бросились к нам; тут только поняли они зачем были потребованы ночью к смотрителю на квартиру. Трудно выразить с каким восторгом благодарили они нас за участие к ним! Приготовленные деньги в отдельных пакетах были переданы каждому в руки, а они отдали нам написанные им и спрятанные в сапогах письма к родным. Они не знали чемъ выразить свою радость и признательность. «Могли ли мы вообразить, — восклицали они, — что отправляясь в ссылку в Сибирь, почти на край света, именно там встретим таких людей, которые с такой любовью отнесутся к нам, тогда как просидев несколько лет в тюрьме у себя на родине, от своих соплеменников не видали подобнаго участия!» Неизвестность, куда именно пошлют их из Тобольска, терзала поляков жестоко. «Попросите, пожалуйста, вашего добраго отца, — умоляли они меня, — нельзя ли как-нибудь смягчить нашу участь». Особенно оди старик, некто Шотровский, тронул меня даже до слез своим умоляющим видом; он, кроме польского языка, не знал другого, почему и выражал свою просьбу одними лишь словами: «Добже пане!» Я, конечно, из этих слов ничего не могла понять. Оказалось, как объяснили его товарищи, он просил выхлопотать ему у моего отца, по старости лет и болезни ног, позволение ехать на подводе при партии. Обещав сделать все, что только было можно, мы распростились с ними. Под тем же конвоем солдат с ружьями отвели их обратно; как только стихли долетающие унылые звуки их цепей, мы, поблагодарив горячо добраго старика смотрителя и предупредив его не передавать отцу о нашем посещении, благополучно возвратились назад, довольные, что могли утешить несчастных. Отец знал, что мы с Н. Д. принимали в поляках болыпое участие, почему его и не удивляли наши просьбы за них; он и сам относился к ним настолько сострадательно, что расположил и других высших служащих оказать им снисхождение, так что вместо Иркутской губернии всех их причислили на заводы Тобольской губернии и по слабости здоровья отправили при партии на подводах.
Страшно трескучий мороз стоял на дворе, когда пришлось им отправляться из Тобольска. Партия выступала слишком рано на разсвете дня, почему мы не могли сами проводить их; но Фонвизины послали свою известную няню, нагруженную всевозможными теплыми вещами. У меня было несколько штук меховых боа, которые я и велела им передать. Няня, провожая партию, встретила на дворе идущего булочника, скупила у него весь короб белого хлеба и высыпала им в сани. Они со слезами глазах просили няню передать мне и Н. Д. Фонвизиной их беспредельную благодарность.
Зыков, заболев в больнице, просил очень через отца, чтоб его навестила Н. Д. Фонвизина, о которой, как он говорил, много слышал хорошаго, почему и желал бы ей открыть свою душу. Н. Д. побоялась поехать к нему одна и просила меня ее сопровождать. В больницу допускали всех, и мы могли быть там без всяких опасений. Приехав, по его желанию, вечером, я думала найти его чуть не умирающим; но он нас встретил у своих ширм и, едва передвигая ноги и задыхаясь, ввел к себе. Та же комедия опять повторилась; он рисовался перед Н. Д. еще более, чем передо мною. Обратившись к ней, он ей сказал: «Мне нужно вам открыть свою душу и я желал бы поговорить с вами наедине». Как ни была неприятна Н. Д. тайная с ним беседа, но делать было нечего и она попросила меня выйти за ширмы.
Больница представляла обширную, довольно чистую комнату с рядами кроватей; в полумраке слышался стон больных арестантов; некоторые боролись с предсмертной агонией, другие умоляли дать им хоть каплю воды смочить запекшияся от жара губы, третьи в горячечном бреду вскакивали и порывались бежать, но были грубо удерживаемы служителями больницы. Жутко становилось мне; наконец, Н. Д. позвала меня и я была очень рада вырваться на чистый воздух из душной атмосферы больницы. Исповедь Зыкова перед Н. Д. заключалась, как она разсказывала, в подробностях убийства им княгини Голицыной и в истории его любви. «Я любил ее страстно, она обещала выйти за меня замуж, но обманула, думая уехать за границу; когда же я узнал об этом, то зазвал ее для последнего прощания в дом моей матери и, мучимый ревностью, вонзил ей в сонную жилу, предварительно изучив, где она находится, приготовленный нож; удар был так удачен, что княгиня не вздохнула; я же, бросив окровавленный нож и тотчас преклонив колена, начал читать над ее трупом заупокойныя молитвы и тут был арестован. Он точно с каким-то наслаждением рассказывал подробности этой ужасной сцены, находя при том в лице Н. Д. сходство с покойной княгиней, так что ей просто стало страшно; рассказ произвел на нее неприятное впечатление, особенно когда он в конце спросил Н. Д.: «Не правда ли, что обо мне, как необыкновенном злодее, много говорят здесь в Тобольске?» Тогда Н. Д. довольно резко ответила ему: «Напрасно вы это думаете, здесь так много и так часто приходится слышать о неслыханных злодеяниях, что история вашего убийства, как более обыкновенная, мало обращает на себя внимания».
Зыков, прожив в Тобольске зиму, весною был отправлен в Иркутскую губернию в отдаленные заводы и по болезни ехал на подводе при партии. На дорогу мать прислала ему из Москвы достаточное количество денег. Останавливаясь на этапах, он и там стал разыгрывать роль богатаго барина, заставлял за собою ухаживать и когда ему, например, подавали шубу, то давал по рублю на чай. Хвастаясь важными связями в России, он обещал места этапным офицерам. Таким образом, он доехал до Иркутска, где в то время генерал-губернатором был граф Ник. Ник. Муравьев-Амурский; к нему тоже писали из Москвы и просили за Зыкова. Граф Муравьев-Амурский вследствие этого принял в нем большое участие, оставил его в Иркутске, отменил по болезни посылку его на работы, поместил в отдельном доме. И что же? Он так зазнался этою протекцией, что стал вмешиватъся в разные дела и раздавать даже места, хвастаясь протекциею генерал-губернатора. Когда граф Муравьев узнал об этом, то так рассердился, что сослал его в самый дальний завод Акатуй на работы, где он и умер.
Глава 5
Омск. — Генерал-губернатор Западной Сибири князь П. Д. Горчаков. — Генеральша Шрамм. — Ее влияние на князя Горчакова и на дела управления. — Власть и значение тогдашних губернаторов в Сибири. — Княгиня Горчакова и ее дочери. — Процесс князя Горчакова о наследстве. — Протест моего отца на решение этого дела в пользу князя. — Гнев князя Горчакова на моего отца и Фонвизиных. — Прибытие в Тобольск ссыльных по делу Петрашевского. — Проводы Достоевского и Дурова в Омск. — Трусоcть князя Горчакова. — Стихи Дурова. — Угрозы князя Горчакова Н. Д. Фонвизиной и моему отцу. — Письмо Н. Д. к императору Николаю Павловичу. — Наши беспокойства. — Неожиданная отставка генерала Шрамма. — Ревизия генерала Анненкова. — Увеселения в честь его в Тобольске. — Увольнение князя Горчакова и назначение на его место генерала Гасфорта. — Неожиданная кончина сыновей Фонвизина. — Приезд в Сибирь брата Фонвизина. — Успешные хлопоты о прощении М. А. Фонвизина. — Наследник цесаревич Александр Николаевич в Кургане. — Отъезд М. А. Фонвизина в Роосию. — Его путешествие до Москвы. Кончина брата его. — Наталья Дмитриевна Фонвизина решается ехать в Россию. — Я соглашаюсь сопутствовать ей.
В Омске, отстоящем в 600 верстах от Тобольска, ближе к киргизской степи, была сосредоточена главная квартира генерал-губернатора Западной Сибири. Там находились также все военные улравления и военное училище, впоследствии переформированное в кадетский корпус, переустройство которого было поручено вновь назначенному из Петербурга инспектору, Ивану Викентьевичу Ждан-Пушкину, бывшему потом директором в 1-м Московском кадетском корпусе, где он и скончался. Он был лично известен, как отличный офицер, начальнику учебныхъ заведений, Якову Ивановичу Ростовцеву, и ему было дано право со всеми вопросами по этому делу обращаться прямо к нему, помимо бывшего в то время директором генерала Шрамма. Прежде Омск был простой крепостью, назначенной для защиты наших границ от набегов киргизов, но когда набеги стали усиливаться, то генерал-губернатор князь Горчаков нашел нужным перевести свою резиденцию из Тобольска в Омск. Жизнь там закипела ключом, начались необходимыя постройки для помещения войска и гражданскаго управления. Город возрастал не по дням, а по часам, хотя долго еще ощущался недостаток в удобных помещениях для служащих. Княз Петр Дмитриевич Горчаков умел окружить себя хорошими людьми; адъютантами его были люди прекрасно образованные, принадлежавшие к лучшему обществу: граф Толстой, барон Врангель, Мантефейль, Бибиков и другие. В начале своего управления князь Горчаков держался твердых и честных правил, чего, к сожалению, нельзя сказать про конец его правления. Подпав под влияние очень умной, хотя далеко не красивой и не молодой генеральши Шрамм, он настолько подчинился ей, что не устоял даже в своих прежних твердых правилах. Она своим замечательно тонким и хитрым умом так забрала его в руки, что под конец без ее согласия и совета не решалось никакое дело. Лесть и взяточничество начали проявляться в огромных размерах, владычество и управление краем перешло совершенно в ее руки; если кому было что-нибудь нужно, то прямо обращались к ней, неся иногда непосильную дань для успеха дела. Князь, конечно, закрывал глаза и делалъ вид, будто ничего не видит, тогда как вся область страдала от владычества корыстолюбивой женщины; возник общий ропот, посыпались доносы в Петербург. Бывши раз на балу у князя Горчакова в Омске, куда к нему приглашались иногда губернаторы с семействами и другие болеее почетные чиновники Тобольска, я увидела там жену богатаго золотоискателя Асташева, приехавшую из Томска тоже на этот бал; она, можно сказать, вся была унизана великолепными бриллиантами; особенное внимание обращал на себя драгоценный браслет, с крупными солитерами. Через несколько дней браслет этот уже красовался на руке корыстолюбивой генеральши. В столь отдаленном краю, как Сибирь, особенно в то время, генерал-губернаторы имели безграничную власть, распоряжались почти без контроля, все перед ними молчало и не смело прекословить; очень немногие могли идти, не уклоняясь, прямым путем к правде, что, конечно, очень не нравилось властолюбивым правителям. Губернаторы тоже имели немалую власть и жили магнатами. Возвращаясь раз из Омска в Тобольск с одним из них, Энгельке, я была поражена тем подобострастием, с которым встречали и провожали нас везде. Впереди нас, на всем шестисотверстном разстоянии, скакал на перекладной, в мундире, заседатель; он приготовлял в деревне квартиру и устроивал приличную встречу. За ним следовал повар губернатора и заранее готовил обед, где назначена была остановка. Потом в карете шестериком, по нарочно усаженной березами и убитой песком аллеи, подъезжали мы к дому, где была приготовлена квартира. Мужики и бабы в праздничных одеждах встречали нас с низкими поклонами и тут же приносили и заявляли свои жалобы губернатору. На подъеме же высокой горы берега Иртыша, по окраине которой лежала дорога, буквально вся деревня была выслана и стояла шпалерами на крутизне, поддерживая экипаж губернатора, чтобы он как-нибудь не соскользнул в пропасть. Езда в Сибири необыкновенно быстрая; лошади с виду кажутся маленькими, но мчат во весь карьер. Когда едут на вольных, то ямщики, заслышав издали звук колокодьчиков, верхами выезжают навстречу проезжающим за околицу и нарасхват стараются вести их. Станции иногда бывают верст по 40. Запрягая лошадей, толпа ямщиков окружает экипаж и держит лошадей, пока ямщик не сядет на козлы; он же садится лишь тогда, когда усядутся седоки, потому что раз он взял в руки вожжи, народ, держащий лошадей, разбегается в стороны и тройка, подхватив, как стрела мчится с такою быстротою, что дух захватывает у седоков.
Князь Горчаков, увлекшись дурным влиянием, внес немало горя и в семейную свою жизнь. Княгиня уехала в Россию и более уже не возвращалась в Сибирь. После ее кончины, дочери ее приезжали было к отцу в Омск, но не могли вынести несправедливости отца и должны были тоже возвратиться назад в Россию. Единственным их утешением во время пребывания их в Сибири было свидание с Нат. Дмитр. Фонвизиной; они нарочно приезжали к ней в Тобольск; но князь, подозревая, что они жалуются ей, как близкой родственнице покойной их матери, на его поведение и недобросовестные поступки относительно их самих, так как он затеял в то время еще одно очень неправое дело, касательно завещанного его дочерям дядею их матери Черевиным по духовному завещанию наследства, и перевел это дело для скорейшего успеха в сибирские суды, где, как властелин края, надеялся выиграть его, восстал и против Фонвизиных, несмотря на то, что до тех пор, в продолжение нескольких лет, был в лучших дружеских отношениях с ними. Он начал писать укорительные письма к Наталье Дмитриевне, будто она восстанавливает дочерей его против него, бесился неимоверно, особенно же когда неправое дело, кончившееся в низших инстанциях судов сибирских в его пользу, перешло на рассмотрение прокурора, которым был тогда мой отец, пользовавшийся, как сказано раныше, всегда его большим расположением. Но сколько ни дорожил отец лестным его вниманием, он не мог поступить вопреки своей совести, почему и протестовал против неправого решения дела в пользу князя Горчакова. Отец очень хорошо сознавал, что своим протестом он наживал себе непримиримого врага в лице князя, как это и оказалось потом, и что он жертвует благосостоянием своей многочисленной семьи, которой оставалось единственное наследство после его смерти — заслуженная им беспорочной сорокалетней службой пенсия. Князь же, по своей силе и безграничной власти в Сибири, легко мог сокрушить и уничтожить все его прежния заслуги. Как ни трудно было предстоявшее ему решение, но, предавшись Богу, он поступил, как повелевалъ ему закон совести. Князь Горчаков, получив протест отца, разсвирепел окончательно. Он никак не предполагал встретить оппозицию от человека, в преданности которого был уверен. Зная же хорошо наши дружеские отношения с Фонвизиными, он в своем гневе отнес все это их влиянию и поклялся, что уничтожитъ до тла противодействующее ему гнездо.
Незадолго же до этой истории была привезена в Тобольск партия политических преступников, так называемых Петрашевцев, состоявшая из восьми человек: Достоевскаго, Дурова, Момбели, Львова, Григорьева, Спешнева и самого Петрашевского. Отсюда их распределяли уже по разным заводам и губерниям. Наталья Дмитриевна Фонвизина, посещая их в Тобольском остроге, принимала в них горячее участие и, находясь еще тогда в дружеских отножениях с князем Горчаковым, просила его оказать посланным в Омск Достоевскому и Дурову покровительство, что и было сначала исполнено князем.
Узнав о дне их отправления, мы с Натальей Дмитриевной выехали проводить их по дороге, ведущей в Омск, за Иртыш, верст за семь от Тобольска. Мороз стоял страшный. Отправившись в своих санях пораныше, чтоб не пропустить проезжающих узников, мы заранее вышли из экипажа и нарочно с версту ушли вперед по дороге, чтоб не сделать кучера свидетелем нашего с ними прощанья; тем более, что я должна была еще тайно дать жандарму письмо для передачи в Омске хорошему своему знакомому, подполковнику Ждан-Пушкину, в котором просила его принять участие в Достоевском и Дурове.
Долго нам пришлось прождать запоздалых путников; не помню, что задержало их отправку, и 30-ти-градусный мороз порядочно начинал нас пробирать в открытом поле. Прислушиваясь беспрестанно к малейшему шороху и звуку, мы ходили взад и вперед, согревая ноги и мучаясь неизвестностью, чему приписать их замедление. Наконец, мы услышали отдаленные звуки колокольчиков. Вскоре из-за опушки леса показалась тройка с жандармом и седоком, за ней другая; мы вышли на дорогу и, когда они поровнялись с нами, махнули жандармам остановиться, о чем уговорились с ними заранее. Из кошевых (сибирский зимний экипаж) выскочили Достоевский и Дуров. Первый был худенький, неболышого роста, не очень красивый собой молодой человек, а второй лет на десять старше товарища, с правильными чертами лиц, с большими черными, задумчивыми глазами, черными волосами и бородой, покрытой от мороза снегом. Одеты были они в арестантские полушубки и меховые малахаи, в роде шапок с наушниками; тяжелые кандалы гремели на ногах. Мы наскоро с ними простились, боясь, чтобы кто-нибудь из проезжающих не застал нас с ними, и успели только им сказать, чтоб они не теряли бодрости духа, что о них и там будут заботиться добрые люди. Я отдала приготовленное письмо к Пушкину жандарму, которое он аккуратно и доставил ему в Омске.
Они снова уселись в свои кошевые, ямщик ударил по лошадям, и тройки помчали их в непроглядную даль горькой их участи. Когда замер последний звук колокольчиков, мы, отыскав наши сани, возвратились чуть не окоченевшия от холода домой. В начале пребывания в Омске, в арестантских ротах Достоевскаго и Дурова, им было гораздо лучше, чем впоследствии. Князь Горчаков, по просьбе Натальи Дмитриевны, принял в них участие и делал разные облегчения, но после размолвки Натальи Дмитриевны с князем все вдруг переменилось, и вместо снисхождения началось притеснение. Прежде всего, запрещено было помещать их в госпиталь, потом велено было высылать их с прочими арестантами в кандалах чистить зимой самые многолюдные улицы, одним словом, начался для них целый ряд разнородных уничижений. Мы имели о них постоянные сведения от Пушкина; он, как инспектор кадетскаго корпуса, писал ко мне о них под видом известий будто бы о родственниках-кадетах; между прочим, забавно описывалъ он переполохъ князя из-за Достоевскаго и Дурова. «Однажды, — писал Пушкин,— начальник штаба, генерал Жемчужников, посетил военный лазарет и, видя здоровый вид Достоевскаго и Дурова, шепнул главному доктору Троицкому, чтоб онъ их выписал, прибавив при этом по секрету, что в них и князь Горчаков принимаетъ большое участие и что им не так худо будет и вне госпиталя; действительно, коменданту было передано по секрету, чтоб с ними и обращались хорошо и не употребляли их на тяжелые работы. Причина приказания выписать их из госпиталя была, кажется, трусость князя. Здесь пресмешная комедия была. Князь, получивши в первый раз предписание о присылке в Сибирь этих несчастных, распорядился тотчас же о развозе их по назначеннымъ местам тоже на почтовых, как они прибыли из Петербурга; на другой день приходит к князю начальник штаба и уверяет, что их следовало отправить по этапам пеш-ком, а не по почте, и что за это князь может получить неприятность. Князь испугался, послал было тотчасъ же адъютанта своего на курьерских в Тобольск, чтоб остановить свое первое распоряжение, но было уже поздно, адъютант встретил на дороге едущих в Омск Дурова и Достоевскаго и узнал, что прочие тоже отправлены и что их никак не догонишь. На князя напала страшная трусость, пошли вздохи и жалобы; он только и твердил окружающим его, что вот долголетняя служба его должна пропасть, что он ожидает каждую минуту, что прискачет из Петербурга фельдъегерь, посадит его в сани и увезет за тридевять земель; ничем заниматься не мог, только это в голове у него и было, и вот, вероятно, под влиянием этой-то трусости он и послал начальника штаба в госпиталь с темъ, что ежели он найдет тех на вид здоровыми, то чтобы приказал выписать. На днях получил, наконец, князь успокоительный ответ из Петербурга, где пишут, что все его распоряжения на счет отправления и назначения этих несчастных одобряются совершенно, и вот он вздохнул свободнее.
Дуров был поэт; он в тюрьме написал прекрасные стихи, которые переслалъ чрез Пушкина к нам в Тобольск, на текст св. евангелиста Матфея: «Пришел Иоанн, ни естъ, ни пьет; и говорят: в нем бес. Пришел Сын человеческий, ест и пьет, и говорят: вот, человек, который любитъ есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». (Мф, 11: 18–19). Прилагаю их здесь.
Когда пустынник Иоанн,
Окрепнув сердцем в жизни строгой,
Пришел крестить на Иордан
Во имя истинного Бога,
Народ толпой со всех сторон
Бежал, ища с пророком встречи,
И был глубоко поражен
Святою жизнию Предтечи.
Он тяжкий пояс надевал,
Во власяницу облекался,
Под изголовье камень клал,
Одной акридою питался...
И фарисеи, для того
Чтоб потушить восторг народный,
Твердили всюду про него
С усмешкой дерзкой и холодной:
«Не верьте! видано ль вовек
Чтоб кто-нибудь, как он, постился?
Нет, это лживый человек,
В нем бес лукавый поселился!»
Но вот Крестителю вослед
Явился к людям Сам Мессия,
Обетованный много лет
Через пророчества святые.
Сойдя с небес спасти людей,
К заветной цели шел Он прямо,
Во лжи корил учителей
И выгнал торжников из храма.
Он словом веру зажигал
В сердцах униженных и черствых,
Слепорожденных исцелял
И воскрешал из гроба мертвых;
Незримых язв духовный врач,
Он не был глух к мольбам злодея,
Услышан Им Марии плач
И вопль раскаянья Закхея...
И что ж? На площади опять
Учители и фарисеи
Пришли Израиля смущать
И зашипели, словно змеи:
«Бегите ложного Христа!
Пусть Он слова теряет праздно:
Его крамольные уста
Полны раздора и соблазна.
И как, взгляните, Он живет?
Мирским весь преданный заботам,
Он ест, Он бражничает, пьет
И исцеляет по субботам.
Он кинул камень в божество,
Закон отвергнул Моисеев,
И кто меж нас друзья Его,
Окроме блудниц и злодеев!»
Дуров.
14-го марта 1850 года. Темница Омск.
Достоевский и Дуров, по окончании четырехлетнего пребывания в Омских арестанских ротах, были переведены в Семипалатинск, откуда потом возвращены, уже в в 1856 году, в Россию.
Каждые два года сибирские генерал-губернаторы обязательно ездили в Петербург с отчетами и новыми представлениями по устройству края. Случилось так, что князю Горчакову, после всех своих неприятных историй, нужно было ехать в Петербург. Уезжая, он прямо заявил во всеуслышание свои угрозы и негодование как на Фонвизиных, так и на отца моего, говоря громко, что, по своем возвращении из Петербурга, он всех своих недоброжелателей нарядит в серые армяки и разсеетъ по Сибири. Положение наше было очень критическое, надо было предпринять какия-нибудь охранительные меры. Наталья Дмитриевна Фонвизина, по своему смелому характеру решилась написать письмо прямо к императору Николаю Павловичу, прося его защиты от самовластия бесконтрольного властелина Западной Сибири. Излагая всепокорнейшую свою просьбу императору, она упомянула, что в оправдание свое она может только представить свою переписку с князем Горчаковым по этому делу, которую и препровождает в III Отделение князю Алексею Федоровичу Орлову.
Письмо к императору и переписку ее с князем взялся отправить на почту жандармский штаб-офицер Фон-Колен. Ответа, конечно, не последовало, и мы прожили зиму в тяжелой неизвестности, чем решится наша участь весной, по возвращении князя, тем более, что от него получались известия об успехе будто бы его дел в Петербурге. Предавшись на волю Божию, мы единственное подкрепление находили лишь в молитве. Вдруг, под конец зимы, неожиданно прислана была отставка генералу Шрамму без всякого, конечно, с его стороны желания, из чего все тотчас же поняли, что дела князя в Петербурге плохи. Вскоре потом стали доходить слухи, что и он не вернется болыше в Сибирь. Наши сердца встрепенулись надеждою на спасение; и в самом деле прошло лето, а князь все не возвращался. Как письмо Натальи Дмитриевны Фонвизиной, так и множество доносов, посланных со всех сторон, подействовали в Петербурге настолько сильно, что к осени назначена была ревизия Западной Сибири, которую и поручено было произвести генерал-адъютанту Николаю Николаевичу Анненкову. Ревизия была им сделана очень снисходительно, вследствие просьбы военнаго министра графа Чернышева, который в продолжение 14-ти лет всегда заступался за князя Горчакова, почему и опасался, чтоб открытие всех его злоупотреблений не послужило бы укором и самому министру. С Николаем Николаевичем Анненковым приехали для ревизии два брата Виктор и Адам Антоновичи Арцымовичи и Ковалевский. Н. Н. Анненков был двоюродный брат декабристу Ив. Алек. Анненкову, поселенному в Тобольске. По приезде своем в Тобольск, Ник. Ник. тотчас же послал за Иваном Александровичем и потом сам все свободное от дел время проводил у них, относясь к нему и к его семье, как самый близкий родственник. При ревизии оказалось много беспорядков в делах и пришлось некоторых чиновников удалить от должностей; к покойному же отцу моему, Анненков во все время ревизии относился с доверием и часто руководился его указаниями. Он нашел в таком порядке все его дела, что, по окончании ревизии, представил его к св. Анне 2-й степени.
Ник. Ник. Анненков всю зиму 1851 года провел в Тобольске. Общество старалось доставить ему всевозможные удовольствия. Давались балы, концерты, пикники, обеды. Молодежь рада была и сама повеселиться. Вообще, город оживился и был неузнаваем, каждый старался чем-нибудь отличиться и обратить на себя внимание заезжего петербургского вельможи, который, надо отдать ему полную справедливость, был необыкновенно любезен и внимателен, особенно с дамами. Чтоб ближе познакомить его с обществом и товарищами декабристами, сибирские Анненковы устроили у себя танцевальный вечер. Все приглашенные уже собрались, когда приехал Николай Николаевич. Он прошел прямо в гостиную, куда последовали за ним тотчас же и многие дамы, прося хозяйку представить их генералу. Я осталась с некоторыми декабристами в зале и когда началась кадриль, которую танцовала я с декабристом Александром Мих. Муравьевым, Николай Николаевич, стоя у дверей, рассматривал всех присутствующих и, заметив меня, как не представленную ему, спросил Прасковью Егоровну Анненкову пофранцузски:
— Qiu est sette sharmante personne?
Она отвечала:
— С’est la fille du procureur, m-elle Frantzoff.
— Prezentez moi je vous em prie a m-elle, j’estime beaucoup son pere et je desire faire sa connaissanse.
[ — Кто эта очаровательная особа? — Это дочь прокурара, м-л Францева. — Умоляю вас представить меня мадмуазели, я глубоко уважаю ее отца и хотел бы с ней познакомиться.]
На всех прочих балах он постоянно был ко мне очень внимателен, что, конечно, весьма льстило моему самолюбию. На масленице, в прощеный день, для него был устроен в благородном собрании «folle journee», на котором, по болезни отца, я не могла быть; он, узнав об этом, наговорил мне много любезностей и сказал, что сам приедет приглашать меня; и хотя сам не приехал, но прислал одного из своих чиновников просить отца отпустить меня на пикник.
По назначении ревизии, князь Горчаков подал в отставку, и на его место назначен был новый генерал-губернатор, генерал Гасфорт. Тобольский губернатор Энгельке тоже по окончании ревизии вышел в отставку и на его место также приехал другой, некто Тихон Федотович Прокофьев, добрый и благодушный старик. Пробыв года два не больше в Тобольске, он по болезни должен былъ оставить должность. Его заменил потом Виктор Антонович Арцымович.
После многолетнего страдания декабристов, наконец, некоторым их них начало улыбаться счастье: ко многим, получив разрешение, стали приезжать на свидание из России сыновья.
Фонвизиным тоже предстояла эта радость: их сыновья также принялись хлопотать о разрешении приехать в Сибирь, но!.. пути Божии неисповедимы! Несчастные родители были лишены этого счастья на земле. Старший их сын вдруг заболел, отправился в Одессу лечиться и скончался там на руках одних своих друзей на 26-м году жизни; это было в 1850 году. Младший же брат его, Мих[аил] Мих[айлович], юноша не особенно крепкого здоровья, так был дружен со своим старшим братом, что после его потери через 8 месяцев приехал в Одессу на могилу брата и испустил дух в той же семье, где умер брат его, и лег с ним рядом. Впоследствии их мать, возвратясь из Сибири, посетила могилу своих сыновей в Одессе, поставила над нею великолепный огромного размера крест с художественно отлитой из бронзы во весь рост страдальческой фигурой Спасителя. Трудно описать скорбь несчастных родителей, когда до них дошли в Сибирь эти печальные вести. Каждый отец, каждая мать поймут это сердцем лучше всякого описания. Потеря первенца хотя и отозвалась тяжело в сердце родителей, но все же оставалась надежда увидеть другого сына. Но никогда не изгладится из памяти моей почтенная фигура старика отца, пораженного новым тяжким горем, в минуту получения известия о смерти второго и последнего сына; он стоял на коленях, обратив взор, полный слез, к лику Спасителя, и мог только прошептать: «Да будет воля твоя святая, господи! верно так угодно богу!» Наталья же Дмитриевна как ни была поражена вторичным страшным горем, но глубокая ее преданность и непоколебимая вера не только не поколебались ни на минуту, но заставили ее с той же любовью, покорно и без ропота принять новое тяжелое испытание, ниспосланное на них господом. У нее удивительно как глубоко было выработано внутреннее самоотречение и постоянная готовность к принесению в жертву всего, что бы ни потребовалось от нее Богом.
В России, на милой родине, у них оставалось теперь одно только дорогое сердцу существо — это горячо и нежно любимый брат Фонвизина, Иван Александрович, который и стал просить разрешения приехать в Сибирь на свидание с несчастным братом. Получив позволение, он тотчас же пустился в путь и приехал в Тобольск летом 1852 года. Радость свидания братьев после такой многолетней разлуки была беспредельна! Иван Александрович прожил в Тобольске 6 недель и спешил назад в Россию, чтобы хлопотать о возвращении из Сибири брата-изгнанника.
Вся зима прошла в хлопотах, и наконец через содействие князя Алексея Федоровича Орлова он достиг желаемого. В феврале 1853 года императором Николаем было подписано разрешение о возвращении из ссылки Михаила Александровича Фонвизина. Это был единственный декабрист, возвращенный прямо на родину Николаем Павловичем. Некоторые из декабристов, как то: Мих[аил] Миха[йлович] Нарышкин, Мих[аил] Александрович Назимов, Лорер, барон Розен, Лихарев, Фохт, фон дер Бригген, поселенные в Кургане, по случаю посещения Сибири во время путешествия в 1836 году цесаревичем Александром Николаевичем были переведены на Кавказ солдатами.
В начале марта, именно 3-го числа, радостная весть о возвращении Фонвизиных достигла наконец и дальних стран Сибири; неожиданно мне пришлось быть вестницею их свободы. Письмо от брата их, Ивана Александровича, с известием о свободе было переслано через моего отца. Когда Фонвизины из привезенного мною им письма узнали о дарованном им праве возвратиться на родину, то слезы радости полились из глаз страдальцев и всех окружающих; упав на колени, они благодарили всевышнего за дарованную им, давно желанную свободу. Весь дом, вся дворня собрались выразить полное сочувствие их радости и также проливали слезы умиления, глядя на них.
Как сердечно ни порадовалась и я за счастье своих дорогих друзей, но невольно сжалось сердце за себя от предстоящей разлуки с столь дорогими людьми, жизнь без которых казалась мне немыслимой. Я не могла себе представить, как останусь без постоянной заботливости любящего старика Мих. Алек. Фонвизина.
При всем желании поскорее отправиться в путь время года не позволило им даже и думать ранее мая месяца пуститься в такое дальнее путешествие, так что волей-неволей они должны были отложить свой отъезд из Сибири, чему, конечно, я радовалась; каждая лишняя минута их присутствия для меня была дорога; но слабое здоровье Ив[ана] Алек[сандровича] от сильных потрясений душевных и трудов по делу о возвращении брата и от частых разъездов в Петербург не выдержало, и он слег в постель, так что вскоре за радостною вестью стали приходить тревожные известия о расстройстве здоровья Ивана Александровича. Первое время он еще писал брату, по обыкновению, каждую неделю; потом вдруг больше недели не имели совсем писем от него, что заставило страшно встревожиться Михаила Александровича; как теперь помню, рано утром 9 апреля, сильно расстроенный, он приехал к нам и просил послать на почту, нет ли на имя моего отца письма от брата. Через несколько минут (мы жили рядом с почтой) письмо было уже в руках Михаила Александровича.
Я еще не выходила из своей комнаты, как отец, войдя ко мне, говорит:
— Выйди поскорее, вряд ли Михаил Александрович не получил печальные вести о брате, он так видимо расстроен.
Я кое-как оделась, вышла поспешно в гостиную и невольно остановилась в ужасе, увидев почтенного старика с дрожащим в руках письмом. Слезы лились из его глаз, я была уверена, что он читает известие о смерти брата; но, окончив письмо, он перекрестился со словами: Слава Богу, брат жив!
Надежда на здоровье его хотя и осветила Мих[аила] Алек[сандровича], но как будто под тяжестью грустного предчувствия не успокоила совершенно. Он тут же решился ехать в Россию один, несмотря ни на какую дорогу, и прямо от нас поехал к губернатору просить дозволения на выезд. Ровно через 5 дней, 15 апреля 1853 года, в великий четверг на страстной неделе, не обращая внимания на страшную распутицу, этот 70-летний старик отправился один, в сопровождении жандарма, в простой телеге на перекладных в далекий путь на родину. Любовь к брату заставила его пренебречь всеми опасностями, могущими встретиться на пути в такое время года. Каким-то тяжелым и грустным предчувствием отозвался у всех на сердце такой скорый, решительный отъезд М. А. из Тобольска. Я прощалась с ним точно как перед смертью, не думая когда-либо увидеть его больше на земле. Мгновенно по городу разнеслась весть о поспешном отъезде М. А., и, несмотря на страстную неделю, все спешили приезжать прощаться со столь глубокоуважаемым всеми человеком; богатый и бедный равно старались заявить свое сочувствие к отъезжающему из края, где в продолжение стольких лет жизни никто никогда не слыхал от него ничего другого, кроме доброго слова и всегда радушного приема и привета. Наконец, настал назначенный день отъезда. Все товарищи, друзья и люди, искренно любившие М. А., собрались провожать его до берега Иртыша в 3 верстах от Тобольска, до места, называемого Под-Чуваши. В доме был отслужен напутственный молебен; началось тяжелое прощание с товарищами многолетнего изгнания, потом с людьми и со всеми знакомыми. Длинный кортеж провожавших двинулся при ярко блестевшем весеннем солнышке; день 15 апреля был чудесный, теплый, ясный. Подъехав к Иртышу, с замиранием сердца следили все, как телега с седоками выехала на лед и покрылась до половины колес водою, образовавшеюся от таявшего снега. Переехать Иртыш было небезопасно; чем дальше удалялся М. А. от холодных стран Сибири, тем опаснее становилось путешествие. В одном месте, как он сам потом рассказывал, ему опять пришлось переезжать Иртыш. Никто не брался его перевезти, так как лед был уже тонок; тогда М. А. решил перейти реку пешком, и только дошел до середины, как лед тронулся, и старик с опасностью для жизни, перескакивая с льдины на льдину, добрался наконец благополучно до противоположного берега. Так доехал он до Перми, не раз подвергаясь опасности при переправах через реки; в Перми он сел уже на пароход, где хотя и отдыхал физически, но зато душевное беспокойство и предчувствие о потере брата томило его жестоко.
На пароходе он доехал спокойно до Нижнего Новгорода. Ему очень нравилось путешествие по Волге и очень интересовало устройство пароходного сообщения, которое для него было новостью. Встречи с разнородными личностями несколько развлекали его от постоянно томящей грусти, не покидавшей его во все время дороги. Пробыв в Нижнем Новгороде не более суток, он успел осмотреть кремль, соборы, подземную церковь, ярмарку и поехал затем на почтовых по шоссе до Москвы.
По приезде в Москву неизвестно для чего его прямо привезли к дому генерал-губернатора графа Закревского, где он получил разрешение отправиться и дом брата Ивана Александровича на Малую Дмитровку. Подъезжая к дому, сердце у него замерло, как он писал сам в Тобольск, от какого-то страшного предчувствия, что брата уже нет в живых. У подъезда его встретил дворецкий, у которого М. А. дрожащим от волнения голосом спросил: «Что брат, здоров?» Дворецкий, увидя его столь расстроенным, сам так растерялся, что не решился сказать ему вдруг ужасную правду, что брата нет уже на свете, и пробормотал сквозь зубы: «Слава Богу?» Михаил Александрович, перекрестясь, воскликнул: «Благодарение Богу!» — и поспешно вошел в богато убранный дом брата; но глубокий траур вышедшей ему навстречу родственницы, жившей всегда при Иване Александровиче, Екатерины Федоровны Пущиной, заставил понять несчастного старика ужасную истину. Они, зарыдав, обнялись молча…
Как только сделалось известно, что он приехал в Москву, масса экипажей потянулась к дому покойного брата на Малую Дмитровку, где остановился Михаил Александрович. Толпа родных и старых друзей окружала его в продолжение целого дня и не давала ему сосредоточиться на своем горе. Но всего отраднее для Михаила Александровича было свидание со стариком Алексеем Петровичем Ермоловым, у которого в молодости он служил адъютантом. Ермолов, как только узнал о возвращении Фонвизиных из Сибири, велел тотчас же дать ему знать об его приезде в Москву, и как только получил это известие, то явился сам и весь день не оставлял Михаила Александровича. Он часто потом с любовью вспоминал об участии, оказанном ему в то время Ермоловым.
По воле императора Николая Михаил Александрович должен был жить в своем имении, селе Марьино (Московской губернии Бронницкого уезда, в 50 верстах от Москвы), с запрещением въезда в столицу. На другой день по приезде он отправился вместе с Екатериною Федоровной Пущиной туда на жительство. Проезжая Бронницы, он посетил свежую могилу дорогого и столь нежно любимого брата. Это посещение было для него невыразимо тяжело; во время служения панихиды на могиле слезы лились из глаз злополучного старика. (Иван Александрович похоронен в родовом склепе при Бронницком соборном храме, где также было оставлено место и для Михаила Александровича.)
Тяжело было ему, одинокому, убитому горем, поселиться в родовом имении, где жили его отцы и деды, где все когда-то кипело жизнью, общею с ним, тогда как теперь он был одинок и в среде общества, совершенно чуждого ему по взглядам и понятиям. Все, что было дорого ему на родине, лежало в свежих могилах, а все дорогое и близкое его сердцу: жена, приемные дети, товарищи, друзья-все были далеко, в стране изгнания, куда невольно летело его сердце. Он сам впоследствии передавал мне, какую сердечную муку пришлось ему вынести первое время по своем возвращении в Россию. Когда пришлось ему расставаться с сибирским жандармом, сопровождавшим его до села Марьина и от которого он во всю дальнюю трудную дорогу не видел ничего, кроме самого сердечного внимания и заботливости, то он обнял его как задушевного друга. Жандарм до того был растроган, что даже поцеловал у него руки.
Три дня спустя после отъезда Михаила Александровича из Тобольска в день Пасхи Наталья Дмитриевна получила из Москвы известие о кончине брата Ивана Александровича, последовавшей 6 апреля 1853 года. Хоронили его 9-го числа, именно в тот день, когда Михаил Александрович читал у нас в Тобольске то письмо, которое заставило его решиться ехать одному, чтобы застать брата живым.
Положение Натальи Дмитриевны было тоже ужасное по получении известия о смерти Ивана Александровича. Страх за мужа, который привык делить с ней все горести и радости жизни и боязнь за то, как он перенесет один тяжкое горе, найдя вместо брата лишь его свежую могилу, все это ее страшно терзало и мучило. Письма, получаемые от Михаила Александровича с дороги, ее мало успокоивали; она решилась ехать при первой возможности, несмотря на свое расстроенное здоровье и нервное потрясение. В особенности ее мучила мысль, как она найдет мужа и перенес ли он удар, поразивший его так внезапно по приезде на родину. Зная любящее сердце мужа, она сознавала, как тяжело ему теперь быть на родине без тех, кого он привык любить с детства, почему и решилась просить отца моего отпустить меня с нею хоть на год в Россию для утешения убитого горем Михаила Александровича.
Как ни тяжело было отцу расставаться со мной, потому что он меня сильно любил, но его благородное сердце не знало отказа в жертве, когда дело касалось пользы другого. Отец тоже знал хорошо, что Михаил Александрович с моего детства любил меня так горячо, как родную дочь, и ничем больше не мог доказать ему свою дружбу в минуту такого тяжелого горя, как пожертвовать разлукой со мной.
Глава 6
Наш отъезд из Тобольска. — Мое прощание с отцом. — Наше путешествие до Нижнего Новгорода. — Неожиданные крестины. — Приезд в Москву. — Приезд генерал-губернатора, чтобы мы немедленно выехали в Марьино. — Прощание с жандармом. — Приезд в Марьино. — Свидание с Михаилом Александровичем Фонвивиным. — Наша жизнь в Марьине — Рассказы Михаила Александровича Фонвизина. — Нарышкины. — Моя поездка в Говорово на именины М. М. Нарышкина. — Семейство Рененкамф.— Кончина моего отца.— Предсмертная болезнь и кончина Михаила Александровича Фонвизина.
4 мая 1853 года, как только дороги стали возможными для проезда, мы двинулись в далекий путь, тоже в сопровождении жандарма, двух детей-приемышей, меня, старой няни, разделявшей с Фонвизиными их изгнанническую жизнь в Сибири, и прислуги. Мы выехали из Тобольска утром в трех тарантасах, нагруженных доверху (сибирские тарантасы необыкновенно удобны и приятны для путешествия), разместившись таким образом: Наталья Дмитриевна со мной и жандармом на козлах в одном, в другом няня с детьми, а в третьем прислуга с багажом.
Все близкие провожали нас до берега Иртыша, до места Под-Чуваши, где, пока устанавливали наши экипажи на паром, мы простились со всеми провожавшими нас. Здесь же простилась я с моей матерью, маленькими сестрами и братьями; немало, конечно, было пролито горьких слез при этом. Отец же мой, Свистунов и Бобрищев-Пушкин поехали провожать нас и дальше, до второй станции, верст за 40.
Прощание мое с отцом было самое тяжелое. Я была поражена его страшною грустью и необыкновенною нежностыо, выразившейся при прощании со мной, тогда как обыкновенно, при всей его горячей любви ко мне, он мало выражал это чувство внешним образом; но при расставаньи оно проявилось в неудержимом потоке нежных задушевных излияний; он целовал мне руки, глаза, благословляя меня. Его сердце точно предчувствовало, что наше с ним свидание на земле не повторится более. Четыре месяца спустя после кончины Михаила Александровича Фонвизина, отец мой скончался в Тобольске без меня.
Наше трехнедельное путешествие из Сибири, хотя было далеко нелегкое, по случаю сильного разлива рек, но тем не менее очень приятное. Красота природы поражала нас на каждом шагу своими величественными видами. Мы ехали день и ночь, дороги были хорошо устроены, гладкие как скатерть, везде чрез речки отличные, прочные, с выкрашенными перилами мосты. На болыших реках везде крепкие, исправные паромы, так что нигде не было никакой задержки. На станциях мы выходили очень редко, останавливались только для того, чтобы напиться чаю. Обед же наш состоял болышей частью из холодных блюд, и мы, сидя в экипажах, закусывали, пока перпрягали лошадей на станции. По переезде Уральскаго хребта, горы делались все громаднее, подъем на них становился очень затруднительным; по бокам дороги лежали такие громадные камни, что некоторые из них имели вид домов. Подъехав к границе, разделяющей Азию от Европы, и где был поставлен гранитный памятник в память путешествия наследника Александра Николаевича по Сибири, мы вышли все из экипажей, чтоб поклониться дорогой, оставляемой нами, Азии. Здесь находилась самая вершина Урала, откуда после постоянного подъема в гору, начинается спуск с нее; тут и реки изменяют свое прежнее течение. Поразительная картина цепи гор, утопающей в синеве небосклона, приковывала нас к себе, и мы долго не могли оторваться от нее. Много дум навеяла эта живая картина на душу, как о прошедшем, так и о неизвестном будущем, ожидавшем нас за пределом этих величественныъ чудных гор.
В больших городах мы останавливались отдыхать по нескольку дней. В Екатеринбурге пробыли дня три, город, хотя и не большой, но нам очень понравился, особенно поразил он нас своею необычайною чистотою. Мы были встречены там очень радушно Одинцовым, женатым на племяннице покойного генерала Глинки, бывшего главным управляющим горных заводов в Екатеринбурге, и всегда очень расположенного к декабристам.
Одинцовы, в продолжение всего нашего пребывания, угощали нас обедами, возили осматривать город и дома некоторых богатых местных жителей с их садами и великолепными оранжереями, наполненными всевозможными тропическими растениями. Наталья Дмитриевна, как страстная любительница цветов, была просто очарована великолепием и богатством сортов растений. Пермь нам мало понравилась; она показалась какою-то мрачною; даже Кама настолько была бурна и неприветлива, что мы не решились плыть водою, а поехали опять в экипажах.
До Казани, по быстроте езды и по устройству дорог, все еще чувствовалось, что едешь Сибирью; за Казанью же все это изменилось. Езда была уже гораздо медленнее и дороги менее исправны; вместо прекрасных мостов, приходилось, большею частью, переезжать по полуразвалившимся и сгнившим доскам. Переправы были тоже далеко не в исправности. Помню хорошо, как выехав из Казани рано утром, мы до самого вечера могли сделать только одну станцию, потому что разлитие Волги было так велико, что затопляло луга и поля на несколько верст в окружности, и нам приходилось переправляться, за неимением хорошего парома, на большой лодке, на которую ставили сначала один тарантас и плыли с ним чрез все это пространство воды, потом возвращалась лодка за другим тарантасом, а так как у нас их было три, то мы и должны были провести на берегу весь день в ожидании конца нашей переправы, которая была небезопасна. Лодка, с натянутым из рогожи парусом и поставленным тарантасом, качаемая ветром, рисковала ежеминутно опрокинуться, особенно пробираясь между затопленных кустов, так что немало натерпелись мы страха при въезде на милую родину. На наше счастье погода стояла теплая, ясная.
Михаил Александрович, проездом останавливаясь на почтовых станциях, сумел оставить по себе добрую память. Во многих местах нам оказывали особенную услужливость станционные смотрителя, узнав, что наш кортеж составлял семью того доброго и необыкновенно ласкового господина, который говорил им, что скоро будет проезжать его семейство.
— Что за простой и ласковый в обхождении барин! — говорили они про М. А., — редко встречали таких господ, хоть и много проезжает их у нас!
Нижний Новгород, раскинувшийся по высоким берегам Волги, показался нам необыкновенно живописным. Остановившись в лучшей гостинице на площади против церкви, я, на другой день нашего приезда, пошла к обедне. Подойдя к церкви, я была очень удивлена, увидя около нее целую вереницу повозок с толкающимися вокруг, плохо одетыми мужчинами, женщинами и детьми. Я спросила: «Что это за люди?» Мне ответили, что это переселенцы из Псковской губернии в Сибирь.
В церкви, по окончании литургии, я заметила какого-то несчастнаго мужичка, обращающегося с какою-то просьбою ко многим из присутствовавших. Дело было в том, что у него в ночь родился ребенок на столько слабый, что он торопился его окрестить, но никак не мог найти восприемников. Придя в церковь в страшном горе, он просто не знал, что делать. Узнав это, я предложила быть крестной матерью, а какой-то господин бывший тоже в церкви, не отказался быть восприемником. Я поскорее сходила домой в гостиницу за необходимыми вещами для крестин и передала Нат. Дмитр. о положении бедных людей; она собрала кое-что из белья, платья и дала денег.
Окрестив ребенка, мы вместе с крестным отцом и новорожденным пошли к кибитке, где находилась несчастная мать ребенка. Бедность их была поразительная; благодарность несчастных родителей не имела границ, когда мы дали им денег и разного тряпья на дорогу.
До Нижнего мы ехали в убийственной неизвестности относительно Михаила Александровича, мы не знали, как он доехал и жив ли? Пробыв в Нижнем дня три, наконец, получили известие, что он жив и здоров, почему и поехали дальше покойно. Усталые и разбитые от продолжительного дальнего пути, мы были очень рады дотащиться, наконец, до Москвы, где надеялись отдохнуть тоже несколько дней, но, увы! нам не дали даже вздохнуть спокойно, не только хорошо отдохнуть.
Рано утром 25 мая 1853 года въехали и мы в Белокаменную через Владимирскую заставу; велика показалась мне Москва, пока добрались мы до Малой Дмитровки, в дом покойного Ивана Александровича Фонвизина. Грустно сжималось сердце в этой обширной, но пустынной для нас столице. В осиротелом доме нас встретила лишь оставшаяся там прислуга. Пустота великолепного дома и его могильная тишина производили на нас тягостное впечатление. Только успели мы несколько оправиться с дороги, как стали наезжать родные Натальи Дмитриевны: тетка ее, Александра Павловна Фонвизина, и дядя ее, Сергей Павлович Фонвизин, и другие. Вслед за ними явился чиновник от генерал-губернатора графа Закревского, прося нас немедленно выехать из Москвы в Марьино. Наталья Дмитриевна была настолько утомлена далеким путешествием, что просила позволить ей хоть переночевать в Москве. Пошли переговоры, ходатайства родных, но ничто не помогало — неумолимая власть не согласилась и на это, боясь, как мы узнали после, чтоб у Нат[альи] Дмитр[иевны] не было такого съезда, как при проезде Мих[аила] Алекс[андровича] через Москву. Итак, к вечеру того же дня мы выехали далее в сопровождении жандарма, но только уже не нашего сибиряка; неизвестно по каким соображениям власти вместо него посадили к нам на козлы одетого в полную форму московского жандарма. Нам было очень грустно расставаться с жандармом-сибиряком, сделавшим с нами трехнедельное путешествие, тем более, что человек он был прекрасный, и когда стал с нами прощаться, то со слезами бросился к ногам Натальи Дмитриевны и обнимался с нами по-братски. Проехав всю ночь, мы на другой день утром остановились в Бронницах с тем, чтобы на могиле Ив[ана] Алекс[андровича] отслужить панихиду, и отправили гонца в село Марьино, отстоящее в 2 верстах от Бронниц, предупредить [Мих]аила Алекс[андровича] о нашем приезде. Радость свидания нашего была безгранична. Он был крайне удивлен, увидя меня вместе с Нат[альей] Дмитр[иевной] , так как отъезд мой был решен неожиданно незадолго до нашего выезда, то ему и не успели написать об этом.
Марьинская усадьба, окруженная старинным тенистым садом со старинными липовыми аллеями, стояла на возвышенной местности; хороший барский с мезонином и балконами дом виднелся издали. Дом был обширный, комнаты высокие, большие, увешанные старинными портретами и картинами работы покойной матери Натальи Дмитриевны, Марии Павловны Апухтиной.
Мы разместились очень удобно; внизу были приемные и комнаты для приезжающих, прекрасный кабинет Мих[аила] Алекс[андровича] и помещение для прислуги. Наверху же спальня и моя комната, из которой открывался великолепный вид. Вдали виднелся город Бронницы, а за ним нескончаемая даль с разбросанными селами, полями и лугами.
Наша жизнь в Марьине потекла очень однообразно и мало удовлетворяла М. А., ему пришлось болеe вращаться с людьми совершенно чуждыми ему по духу и по воспитанию, тем более, что на лето с нами поселилась родственница покойного Ивана Александровича, привыкшая к роскоши и самовластному распоряжение в доме Ив. Алекс, где она жила, окруженная постоянно разными бедными дворянками и приживалками, раболепно покланявшимися ей за ее щедрые благодеяния из чужого богатства. Она вздумала было перенести все свои привычки и в Марьино, окружила себя и тут поклонницами и поклонниками из представителей маленького уездного городка, которые иногда бывали на столько комичны, что напоминали собой типы Гоголя, и страшно стесняли нашу простую жизнь, наши простые требования. Раболепство крепостного права ее прислуги нисколько также не гармонировало с добродушием нашей незатейливой сибирской прислуги. Вообще, дух подобострастия, господствовавши, как нам казалось, в России, производил на нас удручающее впечатлите.
Михаил Александрович прожил в Марьине ровно одиннадцать месяцев. Отсутствие товарищей и задушевных умных бесед с ними, видимо, было тягостно для него. Наталья же Дмитриевна должна была большую часть времени посвящать приведению в порядок весьма расстроенного имения, доставшегося ей по наследству от брата ее мужа — Ивана Александровича Фонвизина. Он, умирая, не мог оставить его брату, которому не были возвращены права и звание. Соседей, подходящих для Мих [аила] Алекс[андровича], почти никого не было, так что большую часть дня ему приходилось делить со мной.
Радушная внимательность и сердечная признательность за малейшую услугу, были отличительными чертами его благородного характера; под его попечением жилось приятно и отрадно. Он относился одинаково внимательно к самым малейшим мелочам жизни. Бывало, обо всем подумает, чтоб было удобно и хорошо живущим у него. Помню, как велика была его заботливость, когда мне случилось поехать в первый раз из Марьина осматривать Москву; заранее были посланы все распоряжения управляющему домом Ив. Алекс. Фонвизина, где я должна была остановиться, чтоб по приезде я не имела ни в чем недостатка; кроме старой няни и человека, со мной был отправлен из Марьина повар, которому даже заказаны были Михаилом Александровичем обеды на всю неделю, которую я намеревалась провести в Москве. Я описываю все эти подробности с тою именно целью, чтоб показать во всей полноте, как велика была всегда заботливость о других незабвенного Михаила Александровича.
Летом мы с ним часто езжали по разным селам к обедне, много гуляли по любимым, родным его полям. Ему доставляло особенное удовольствие рассказывать мне про былые времена, например, про нашествие французов в 1812 году, причем он вспоминал разные эпизоды, касавшиеся лично его в эту эпоху. Например, как, однажды, будучи адъютантом Ермолова, он прискакал в Марьино к своему отцу, жившему тут с семейством, сказать, что французы идут по этой дороге, и чтоб они уезжали, как можно скорее на Рязань, и как, проводив их, он отправился сам, несмотря на близость неприятеля, в баню, которую любил, как русский человек, страстно. Только что успел он выйти из бани, ему докладывают, что неприятель близко; он вышел на балкон дома и, увидев, действительно, вдали приближающихся французов, скрылся от неприятеля переодетый, с помощью обожавших его крестьян, в мужицкое платье, и, встретив нашу бригаду, шедшую к Москве, остановил ее, сказав, что Москва занята уже французами. Бригадный генерал не поверил было его словам и не хотел изменить маршрута, данного ему начальством. Тогда Мих. Алекс, энергично восстал, взяв всю ответственность на себя, и дал генералу письменный приказ, как адъютант Ермолова, переменить маршрут по случаю занятия столицы неприятелем, чем и спас целую бригаду от неминуемого плена. Все эти рассказы развлекали его несколько; но не на столько удовлетворяли, чтоб он не чувствовал своего одиночества на родине. Впрочем, приезды некоторых старых товарищей-декабристов, как, например, Михаила Михайловича Нарышкина с женою, рожденной графиней Коновницыной, барона Тизенгаузена, возвращенного из Сибири по просьбе детей, родных П. С. Бобрищева-Пушкина и разных родных Фонвизиных, служили всякий раз большим утешением для Михаила Александровича. Он точно перерождался и снова оживал в беседах с людьми одного с ним взгляда, образования и понятий.
Нарышкины и прежде всегда были очень дружны с Фонвизиными, а так как они, как я говорила выше, были возвращены чрез Кавказ гораздо раньше всех других в Россию, то много о чем пришлось поговорить им при свидании. Личность Мих [аила] Мих[айловича] Нарышкина была необыкновенно симпатична. В его благообразной старческой фигуре (он был в молодости очень красив собой) сияло что-то детское, мягкое. Приветливо-ласковое его обращение привлекало к нему невольно всех. Жена его, Елизавета Петровна, имела самостоятельный характер: она хотя была и некрасива собой, но удивительно умное выражение лица заставляло не замечать этого; ум у нее был в высшей степени острый, игривый и восторженный; она все подметит и ничего не пропустит без замечания. С ней всегда было очень весело и приятно. Она получила самое блестящее образование и была единственная дочь знаменитого генерала графа Коновницына. Любимица отца, обожаемая мужем, она последовала за ним в Сибирь на каторгу, где и подружилась с Натальей Дмитриевной Фонвизиной, перед которой впоследствии благоговела за ее глубокую религиозность и внутреннюю духовную жизнь. При свидании в Марьине они вспоминали о жизни, проведенной на каторге, но без малейшей горечи или грусти, напротив, много смеялись, припоминая разные смешные эпизоды, случавшиеся там с ними.
Нарышкины, приезжая несколько раз в Марьино, всегда были очень внимательны и добры ко мне. Приехав однажды осенью и узнав, что я собиралась в Москву, они упросили меня приехать на именины к Михаилу Михайловичу, 8-го ноября, в Говорове, имении его родной сестры княгини Евдокии Михайловны Голицыной, в 15-ти верстах от Москвы. Отправившись из Марьино в одно время с ними, я, приехав в Москву, остановилась у Е. Ф. Пущиной и, накануне 8-го числа, отправилась с девушкой на своих лошадях в сопровождении присланного от Нарышкиных человека. Меня просили не опаздывать к обеду, так как княгиня не любила этого, но дорога была на столько дурна и по замершей земле невозможно было скоро ехать. Я застала всех уже за столом. Михаил Михайлович и Елизавета Петровна вышли меня встретить в переднюю и представили княгине, которая обворожила меня своею любезностью. Высокая, худая, спокойная, она носила на себе отпечаток какой-то благородной величавости и невольно внушала к себе уважение. Она меня очень обласкала, посадила около себя за столом, представила всем присутствующим у ней гостям, много расспрашивала о Сибири и о жизни там. Говорово показалось мне настоящим раем, так все в нем было устроено со вкусом и изяществом.
Пробыв дня три в Говорово, я возвратилась в Москву с милым и добрым бароном Рененкамфом и его женою, с которыми я познакомилась у княгини и которые предложили мне для большего удобства поехать с ними вместе в карете. Барон и баронесса приняли во мне, как в заезжей сибирячки, большое участие, старались показать достопримечательности Москвы, познакомили со многими своими знакомыми, возили в оперу. Сама баронесса была довольно слабого здоровья и мало выезжала, так что моим чичероне был сам генерал Рененкамф. Он был большой добряк, любезный и предупредительный. Благодаря всем этим развлечениям, мне пришлось прожить в Москве лишнее время; но я начала уже скучать и меня тянуло в Марьино к моим дорогим друзьям, зная хорошо, что и им без меня не весело в деревне. Под конец Мих. Алек, уже начал в письмах ко мне спрашивать: «Скоро ли я приеду?» Я была счастлива вернуться в Марьино, где мне, окруженной любовью и постоянным в высшей степени деликатным вниманием, так хорошо жилось; только тоска по отце моем, о котором я не могла вспо-минать без давящей грусти, нарушала мое счастье. Какое-то предчувствие говорило мне, что я его не увижу больше. Конечно, я старалась, сколько могла, скрывать тягостное чувство и боролась с ним, чтоб не огорчить Фонвизиных; но оно было верным предсказанием души. Ровно чрез год, в сентябре месяце, отец мой лежал уже в могиле одиноко на тобольском кладбище, так как мать моя с осиротевшей семьей, вскоре после его смерти, должна была переехать в Poccию.
После отъезда Ек. Ф. Пущиной из Марьина в Москву на зимний сезон в свой дом на Малую Дмитровку, доставшийся ей по духовному завещанию от Ивана Алек. Фонвизина, наша жизнь потекла гораздо приятнее и свободнее, без нравственного стеснения, испытываемого нами во все время летнего ее присутствия в Марьино.
Мих[аил] Алек[сандрович] по своему живому характеру и здесь вел деятельную жизнь и много читал, так как в Марьине сохранилась большая старинная библиотека; он вел огромную переписку, любил очень беседовать с мужиками, вникал во все их нужды, помогал им и словом и делом. Все они имели к нему свободный доступ и большую доверенность. Гуляя с ним, мы часто заходили к крестьянам в избы, где все встречали его, как родного отца, но, несмотря на всю его доброту, он не потакал дурным их качествам и был неумолим, когда нужно было оказывать правосудие, что хорошо знали крестьяне и чтили его за это. Вся хозяйственная часть в Марьине, так же как и в Сибири, лежала на старой няне, Матрене Петровне; она много помогала Мих[аилу] Алекс [андровичу] своею чуткою правдивою натурой в удовлетворении нужд крестьянских. Маленькие приемные дети развлекали и утешали его любящее сердце. Старшую девочку он поместил в одном из московских пансионов, где она и кончила свое воспитание. Наши беседы с Мих[аилом] Алек[сандровичем] были продолжительные; воспоминания о прошлой сибирской жизни и о всех там оставшихся друзьях доставляли ему много удовольствия. Наталья Дмитриевна только к вечеру освобождалась от своих занятий по приведению в порядок дел по имению, и тогда наши общие беседы длились далеко за полночь.
Однако душевные потрясения и горести, вынесенные с удивительной покорностью, повлияли разрушительно на здоровье Михаила Александровича. Силы стали изменять ему, неизлечимая болезнь начала проявляться различными недугами, мучившими его немало. Так прошли лето и зима; приближалась живительная весна, дававшая нам большие надежды на обновление сил больного и на успешную борьбу с недугами; но неуловимая смерть подкараулила свою жертву как раз в то время, когда все в природе возрождалось и давало всему жизнь и силу. В марте месяце 1854 года, у М. А. кроме других недугов разболелась сначала раненая нога, а потом и в другой ноге стала ощущаться боль, преимущественно в пятке. Ему делали несколько раз ванну, которая немного успокаивала боли, затем вдруг боли в ногах прекратились, чему мы очень было порадовались; но чрез несколько дней болезнь поднялась выше и сделалась опухоль в лице. Погода всю весну стояла отвратительная; холод, сырость и слякоть не позволяли выходить на воздух. 20-го же апреля наконец порадовало нас солнышко, это был первый теплый, почти летний день. Мих. Алек, несмотря на то, что накануне брал ванну, упросил меня пойти с ним гулять; хотя воздух был теплый и он был одет в драповое пальто, но дул довольно пронзительный ветер; весенний воздух показался ему весьма приятен, и он находил, что давно уже не чувствовал себя так хорошо, почему и не хотел вернуться назад. После двухчасовой прогулки, у него явился хороший аппетит, и он, забыв о диете, которую пред тем соблюдал, покушал хорошо за обедом, был весел и доволен, много шутил, а после обеда, по обыкновению, лег в своем кабинете на полчаса отдохнуть; встав же, он почувствовал тошноту, сделалась рвота, которая никого из нас не испугала; мы отнесли это, конечно, к простому расстройству желудка, уложили его в спальне уже наверху в постель, дали кое-какие домашние средства против расстройства и, успокоившись, разошлись на ночь по своим комнатам. Ночью меня разбудил какой-то шум и небывалый топот шагов, раздававшая в коридоре. Я встала, чтобы узнать причину этого шума; мне сказали, что у Мих. Алек, опять поднялась рвота, и он сошел к себе в кабинет. Нас всех это так встревожило, что мы уже не ложились больше спать, тем более, что рвота у него не только не прекращалась, но к утру еще усилилась и сделалась совершенно черной.
Когда утром рано я пошла его навестить, то, войдя в кабинет, была поражена переменой, происшедшей в нем за ночь; он был неузнаваем, лицо осунулось и потемнело. Послали в г. Бронницы за доктором, который, приехав, осмотрел больного, покачал головою и сказал, что болезнь очень трудная и опасная. Делали все, что только могли для спасения больного, но болезнь брала верх и шла быстро; сделалось разложение желчи.
Страдания были жестокие. Томительная жажда иссушала всю внутренность больного; удовлетворять же ее не позволяла несносная рвота, начинавшаяся после каждой ложки освежающей воды и доводившая его каждый раз почти до обморока, так что страшно становилось за него. Доктор, вследствие сильных приступов, советовал как можно реже и осторожнее давать ему пить, потому что могло захватить совсем дыхание, что составляло для него невыносимую пытку. Томясь палящею жаждой, он умолял дать ему хоть глоток воды; при отказе же с отчаянием восклицал: «Что за мучение такое! Самый последний бедняк на земле счастливее меня; он по крайней мере не лишен той капли воды, которую я умоляю дать мне!»
Невыносимые мучения продолжались ровно десять дней; выписали было доктора из Москвы; но было уже поздно. Он нашел, что лечение ведено было Бронницким врачом правильно, как следовало; но что спасти страдальца с начала болезни не было никакой возможности.
Не доверяя никому давать ему без себя лекарства, я не отходила ни днем, ни ночью от постели больного, который все время не терял памяти и сознания; бодрость духа, остроумие и какая-то детская веселость, не смотря на страшные страдания, не оставляли его. Он лежал в кабинете, увешенном портретами предков своих; в числе их находился и портрет его матери, смотря на который, он часто стал повторять, что скоро увидится со всеми ими и умрет в этом же кабинете, где скончалась его матушка. Чтоб разогнать мрачные его мысли, мы решились перевести его в другую комнату. Он согласился и имел еще на столько силы, что сам перешел несколько комнат и шутя говорил, что «он теперь точно выходец с того света». Попросил подать ему зеркало, чтоб, как говорил он, «запомнить свой образ при том исчезновении, в которое вступаю я теперь».
В полумраке от теплившейся лампады перед ликом Спасителя «Моление о чаше» и при царившей тишине, мы просиживали ночи около него; бывало он выйдет из забытья и, видя меня постоянно возле него, обернется ко мне с своими, всегда добрыми, нужными словами: «А вы все здесь еще, друг мой? Измучил я вас?» Или, гладя меня по голове, скажет:«Как вы похудели, ухаживая за мной! Не знаю как и благодарить вас за ваше нежное хождение за больным стариком. И как должен я благодарить Бога, что я заболел не тогда, когда пpиехал сюда одиноким! Что стал бы делать я тогда без нежных друзей?» Положение больного ухудшалось с каждым днем, но никому из окружавших его не казалось, что он скоро нас оставить. Я не допускала мысли, чтоб это могло случиться, так она меня страшила. Хотя я и сознавала тяжелое и трудное состояние его болезни, но все надеялась, что Господь хоть чудом да оставить его еще нам на земле. Чтоб освежиться от томительной ночи, я утрами уходила на несколько минут к себе наверх в комнату. Вид великолепной картины восходящего солнца, оживления природы, чириканье птичек, веселая песня жаворонка, поднявшегося высоко, высоко над землею, все это не радовало меня, а еще более придавало грусти, тоска еще сильнее сжимала Мое сердце от поражающего ужасного контраста, что в то самое время, когда в природе все дышало жизнью, в только что оставленной мною комнате угасала жизнь любимого человека. Он чувствовал и видел яснее нас, что недуг его смертельный. Следующий разговор его со мною свидетельствует, насколько душа его была приготовлена к смерти и переходу в вечность. Однажды, незадолго до его кончины, поддавшись сильному горю при мысли о предстоящей скоро вечной разлуке с ним, я смотрела на умирающего старца, лежавшего в забытьи, и залилась горькими слезами. Точно ли он спал, или только лежал с закрытыми глазами, но вдруг он ласково обратился ко мне с вопросом:
— О чем вы плачете, друг мой?
Услыхав его вопрос, я как бы очнулась и старалась поскорее скрыть слезы, чтоб не испугать его; но он продолжал также тихо и кротко:
— Не плачьте, друг мой, обо мне; я готов предстать на суд милосердого Бога. — И, показывая рукою на стоящую пред ним икону Спасителя, продолжал: — Я молю только Господа Бога, чтоб он послал ангела своего отрешить мирно душу мою от тела. Вас же прошу, друг мой, когда меня не будет здесь на земле, помолитесь обо мне. Ваша молитва чистая дойдет до Господа и будет служить самым лучшим доказательством дружбы вашей ко мне на земле.
Тогда я уж не могла более сдерживать себя и зарыдала, припав к его исхудалым рукам и целуя их. Любящему его сердцу видимо стало жаль меня, и он начал успокаивать меня, говоря: «Не плачьте, друг мой, Господь может даст, что мы опять будем гулять вместе с вами по любимым полям»! Но, конечно, я хорошо понимала, что это одно лишь утешение с его стороны. В продолжение всей болезни Михаила Александровича все с большою любовью ухаживали за ним; старая няня тоже почти не отходила от больного, никто не тяготился им, кажется, всякий был бы рад целый век ходить за таким кротким, признательным больным, каким был он. Наталье Дмитриевне, жене его, конечно, тяжелее всех было видеть угасающую, столь дорогую, жизнь, и она с трудом могла сдерживать в присутствии больного, свою скорб. Мы раза два предлагали ему пpибщиться Св. Таин, но он говорил: «Подождите, я еще не готов к этому великому таинству, скажу сам, когда нужно будет».
За день до кончины, Михаил Александрович поутру попросил послать за священником и Святыми Дарами, исповедался, просил у всех прощения и с большим чувством приобщился Святых Таин. Потом, час спустя, по желании крестьян, которые в продолжение всей болезни постоянно толпились у дверей дома, узнавая об его здоровье, принесли их чудотворную икону Скорбящей Божией Матери, и в комнате больного отслужен был молебен о его здоровье. Трогательная была картина, когда комната наполнилась крестьянами, молящимися о дорогом отходящем. Михаил Александрович сам молился с чувством и видимо был тронут молитвами крестьян, которых он всегда очень любил. По окончании молебна, с обычным своим добродушием он прощался с каждым из них, благодарил за участие и любовь, выраженную ими. Отдохнув немного после утомительного утра, он подозвал меня к себе, посадил на кровать и спросил: «Какой завтра день, почтовый? Вы будете писать в Тобольск?» и, не дав мне ответить, продолжал: «Теперь выслушайте мою последнюю просьбу: напишите и передайте, пожалуйста, всем моим друзьям и товарищам, назвав каждого по имени, последний мой привет на земле. Вашему же отцу скажите особенное от меня спасибо за его дружбу и жертву отпустить вас ко мне. Ведь я знаю, как это тяжело было ему, любящему вас так горячо». Отдохнув немного, он продолжал: «Другу моему Ивану Дмитриевичу Якушкину, кроме сердечного привета, передайте еще, что я сдержал данное ему слово при получении от него в дар, еще в Тобольске, этого одеяла (он был покрыт вязанным одеялом, подаренным ему Якушкиным), обещая не расставаться с ним до смерти. А вы сами видите, как близок я теперь к ней!»
День прошел спокойно: больной жаловался только на боль в раненой ноге. К вечеру боль усилилась, а потом появилось поражение всей правой стороны и части языка. Доктор велел поставить ногу в горячую ванну, боль не унималась, а горячая ванна произвела только бред; вся кровь прилила к голове; всю ночь он бредил и порывался встать, но парализованная нога мешала ему.
К утру 30-го апреля 1854 года сделался сильный упадок сил с выступившим холодным потом; бред прошел, сознание вернулось, и больной видимо угасал; ему начали представляться какие-то видения. Я принесла ему крест с мощами и предложила читать за мною молитву «Да воскреснет Бог». Он видимо обрадовался, приложился с благоговением к кресту, но едва мог уже произносить за мной слова молитвы. Силы все слабели, язык плохо говорил. Послали за священником, началось соборование; руки его были слабы и не могли держать свечу. Плач и рыдания огласили комнату умирающего; все домашние собрались помолиться об отходящем всеми горячо любимом человеке. По окончании соборования, священник предложил ему еще раз пpиобщиться Св. Таин; он радостно выразил свое coraacie и с чувством глубокого благоговения принял Господа. Священник начал читать отходную, и во время чтения ее Михаил Александрович отдал дух свой в руки Божии с какою-то неземною радостною улыбкою, озарившею его уста.
Это было в 4 часа пополудни 30-го апреля 1854 года. Как только весть о кончине Михаила Александровича пронеслась на деревне, так к первой же панихиде собрались все крестьяне. Трудно описать нелицемерную скорбь, охватившую всех присутствующих при первых звуках заупокойного пения, столь умилительно выражающегося в молитвах об усопших. Во все время четырехдневного стояния тела Михаила Александровича, панихиды от крестьян не прекращались. Они все считали священным долгом помолиться за искренно любившего их человека.
В первые минуты я как будто не понимала, что происходило около меня, плакала и молилась, кажется, только потому, что видела, как другие это делали; не могла даже проникнуться ясным сознанием случившегося скорбного события и ходила как тень, не принимая ни в чем участия. Но, однако, суетня и беготня, которая всегда бывает первое время по кончине человека, и бессонные ночи, проведенная с больным, на столько меня утомили, что когда все разошлись и все утихло, и мы, оставшись одни с Натальей Дмитриевной, сели в гостиной на диван рядом с той комнатой, где стояло тело почившего, я, положив голову к ней на колени, забыв все, заснула крепким сном. Но! какое ужасное пробуждение! До сих пор не могу вспомнить о нем без содрогания. Я еще не успела открыть глаз, как вдруг слова чтеца, говорившего медленным, мерным тоном: «Упокой Господи душу новопреставленного раба твоего болярина Михаила» — поразили мой слух. Невозможно выразить того, что испытывала я в эту минуту. «Да неужели же свершилось то, чего я никак не допускала?» — отозвалось у меня глубоко в разбитом сердце. «Неужели же в самом деле то существо, которое было так недавно еще с нами, разделявшее вместе все наши радости и огорчения, находилось теперь недвижимо там, в той комнате, откуда неслись эти ужасные заупокойная слова? Но где же он сам? Ведь за несколько минут он был тут? Теперь же чувствуете, что его нет уже с нами? Что же это такое? Человек был, и нет его? Куда ушел? Что такое смерть? Что за таинственный, незримый ни для кого переход совершил он»?.. Все эти вопросы один за другим толпились в больной голове моей и сжимали невыносимою болью сердце. Открыв глаза, я увидела, что уже наступила ночь; тускло горевшая лампа на столе разливала полусвет в обширной гостиной; луна, показавшись из-за туч, освещала мрачный, безмолвный сад и ударяла прямо в окна нашего осиротевшего дома. Когда я поднялась, то Наталья Дмитриевна, взглянув на меня, невольно вскрикнула: «Посмотри, что это у тебя с лицом, одна сторона темная, другая совершенно белая?»
О кончине Михаила Александровича послали тотчас известием в Москву к родным; но так как тогда телеграфа еще не было, то родные не могли скоро приехать, почему в ожидании их похороны пришлось отложить до 4-го мая. День был жаркий, веял благотворный ветерок, деревья распустились, даже черемуха была в цвету. С раннего утра несметные толпы крестьян из окружных даже деревень собрались отдать последний долг человеку, страдавшему за идею об их освобождении. До самого собора в Бронницах гроб несли на руках своих крестьяне, вереница экипажей с родными и знакомыми тянулась по проселочной дороге. Мы же все шли пешком за гробом отлетевшего нашего друга.
При торжественном богослужении совершилось погребение. Тело опустили, при громких рыданиях всех присутствующих, в тот же склеп, где погребен был и братья его Иван Александрович при соборном храме в городе Бронницах.
По окончании церемонии все печально возвратились в осиротевшее Марьино, где приготовлено было поминовение об усопшем, для гостей в доме, а для крестьян на расставленных в саду столах.
Глава 7
Жизнь наша в Марьино после кончины Михаила Александровича Фонвизина.— Моя болезнь.— Отъезд Натальи Дмитриевны Фонвизиной в Кострому. — Известие о кончине моего отца. — Печальное положение нашей семьи. — Мое душевное расстройство.— Поездка моя в Кострому к Наталье Дмитриевне Фонвизиной. — Приезд в Марьино моей матери. — Мои заботы о семье. — Первая, неудачная поездка в Петербург. — Вторичная поездка в Петербург. — Счастливая встреча в вагоне. — Помещение двух моих братьев в кадетский корпус. — Третья поездка в Петербург. — Хлопоты с племянницами. — Поездка в Царское Село для подачи просьбы императрице. — Добрый офицер-немец. — Моя оплошность. — Затруднительное положение. — Флигель-адъютант граф Апраксин. — Подача моей просьбы императрице. — Определение одной из моих племянниц в Елизаветинский институт. — Мое свидание с Николаем Николаевичем Анненковым. — Его любезное участие ко мне. — Заключение.
После отъезда всех родных в Москву, мы остались с Натальей Дмитриевной вдвоем. Дни нашей одинокой жизни потянулись, сопровождаемые мрачной тоской, которая точно камнем давила нас своею тяжестью. Для меня все переменилось в доме, все обаяние жизни исчезло с смерти Михаила Александровича, поля и сады потеряли всю свою прелесть; привыкнув делить постоянно почти все время с ним, я чувствовала живо незаменимость его утраты. Явилась какая-то убийственная апатия ко всему и всем; единственное еще утешение я находила в ежедневном посещении могилы и в молитвенном единении с усопшим. Здровье мое не выдержало, и я заболела. Даже Наталья Дмитриевна, несмотря на твердость своего характера, не могла выносить убийственной тоски и решилась проехаться в свои родовые Костромские имения, где она провела всю свою поэтичную юность, и где нужен был для обозрения ее хозяйственный глаз. К несчастью, я не могла, как предполагала прежде, сопутствовать ей; у меня так разболелась нога, что я пролежала несколько недель в постели. Оставшись после отъезда Натальи Дмитриевны совершенно одной в деревне, я нисколько не тяготилась моим одиночеством, мне сначала даже было приятно иметь возможность отдаваться всецело грусти и воспоминаниям о прошлом. Апатия моя нарушалась лишь одним желанием увидаться поскорее с отцом, к которому я стремилась всей душой, и я, несмотря на тайный какой-то страх не увидать его больше на земле, положила непременно возвратиться к зиме в Сибирь; но, судьбы Божьи неисповедимы! В конце сентября я получила письмо от матери моей от 9-го сентября, где она писала, что отец захворал обычными своими спазмами и вспоминает, что никто так не угождал ему в болезни, как я. Странное впечатление произвели на меня эти малозначащие как будто слова. Мне точно кто-то сказал, что все уже кончено и отца нет больше на этом свете. Я мрачно передала свое впечатление старой няне Матрене Петровне и доктору, приезжавшему ежедневно ко мне из города. Они, конечно, стали меня уговаривать не придавать этому значения, относя все к расстройству нервов. Я слушала их, и сколько не старалась заглушить тайный голос разумными доводами, никак не могла; но чтоб не спорить, я, взяв на себя личину равнодушия, стала ждать второго письма, которое неделю спустя и было уже в моих руках. Долго не могла я решиться открыть его, перечитала нарочно прежде все другие незначащие от разных управляющих письма, и когда няня, стоявшая около меня, сказала мне:
— Да оставьте уж не интересные письма, прочтите лучше, что пишут из Тобольска?
Тогда только решилась я распечатать дрожащими от волнения руками письмо, хотя оно и не было запечатано черною печатью. Первые строки письма меня не поразили; писалось о чем-то, не помню, незначащем. В половине же письма вдруг читаю, что мать «до сих пор не может привыкнуть к ужасной мысли, что отца нет больше на свете». Я точно окаменела, не могла понять: «что же это такое? разве в самом деле отец умер? так почему же такую ужасную истину сообщают мне слегка, как какую-то простую новость».
Чувство злой досады против матери за столь легкое сообщение охватило меня в первую минуту. Подробностей никаких, кроме плача и сетования о своем горе! но скоро объяснилось это странное уведомление. В тот же день, когда мать писала мне от 9-го сентября, о легкой болезни отца, желая меня несколько приготовить, его уже не было в живых. 4-го сентября с ним сделался удар, а 9-го его уже не стало. Мать моя и добрый наш друг П. С. Бобрищев-Пушкин написали мне подробно, как об его внезапной болезни, так и о кончине, и послали все это к одной нашей близкой соседке-помещице, которой писали и прежде о безнадежном состоянии отца, прося ее, подготовив меня, передать потом их письма. Она же поступила настолько неразумно, что, приехав ко мне ранее и найдя меня в сильно нервно-возбужденном состоянии от предчувствия, что отец скончался, испугалась и уехала, не решившись даже намекнуть мне о моем горе. Она только велела прислать за ней тотчас же, как я получу второе письмо от своих. Глупее ее распоряжений ничего не могло быть! Узнав о получении мною второго письма, она приехала и только теперь прочла первое письмо, где находилось подробное описание христианской и прекрасной кончины отца. Он несколько раз приходил в себя, два раза приобщался св. Таин, соборовался, благословил всех детей, а меня заочно; потребовав мой портрет, он благословил его и велел написать мне, чтоб я молилась за него. По прочтении отходной, духовнику захотелось, чтоб была пропета любимая его песнь к Богородице: «Высшую небес», во время которой он и испустил мирно дух свой, заповедав плачущей матери «возверзти печаль свою на Господа». Истерическое рыдание вывело меня из того окаменения, в которое я впала по прочтении первого мною полученного письма; потрясете и так уже расстроенных моих нервов было так сильно, и так неожидан был для меня, не смотря на предчувствие, последний жестокий удар, что я положительно боялась за свою голову, тем более, что кроме жгучего сердечного горя, я понимала, что осиротевшая семья наша из восьми детей с больною, слабою и волей, и физическими силами, матерью, осталась в крайне тяжелом положении и вся забота о ней падала на меня одну. Я тут же решила ехать как можно скорее на помощь к матери; но мать не захотела оставаться без отца в Сибири и предупредила меня, что она со всеми детьми переезжает в Poccию. Наталья Дмитриевна, узнав об этом, предложила в наше распоряжение флигель в деревне. Сколько ни боролась я с удручающею меня скорбью, но она одолела меня и, постоянно усиливаясь, довела до такого нервного состояния, что у меня явилась болезнь (столбняк), продолжавшаяся и мучившая меня более восьми лет. Наталья Дмитриевна по своим делам не могла скоро возвратиться из Костромских имений и писала мне, что она окружена людьми недоброжелательными и боится, чтоб они не наделали ей много зла. Получая такие тревожные от нее письма, мне, при моем расстройстве, вообразилось, что и она находится в беспомощном положении, и я, несмотря на свою болезненность, взяв девушку, одна отправилась на помощь к Наталье Дмитриевне в имение, верст 200 за Кострому. До Троицы Серия я доехала на своих лошадях, а оттуда должна была уже ехать на передаточных. До Ростова нас везли в порядочных повозках, дальше мы уже не имели этого удобства, а за Костромой пришлось, буквально, лежа в узкой как гроб повозочке, запряженной парой лошадей, тащиться с простым мужиком на козлах по дремучим Костромским лесам. Бывало я подниму рогожу, покрывавшую нашу гробницу, посмотреть где мы едем и кроме звездного небосклона, да дремучего покрытого снегом леса ничего не видно. Иногда становилось жутко, что мы две беззащитные женщины со-вершенно находимся в руках неизвестного нам мужика. Но милость Божия покрывала нас своею святою охраною, и мы доехали благополучно. Наталья Дмитриевна, непредупрежденная о моем приезде, сколько обрадовалась, столько же и удивилась, увидав меня: «Точно приведенье явилась ты», — говорила она. Именье ее — Давыдовка — расположено в превосходной местности, на крутой горе, покрытой густым лесом, внизу же, его живописно огибала, извиваясь, река Унжа, то ускользая от глаз, то снова показываясь вдали лучезарным изгибом.
Назад я возвращалась уже вместе с Натальей Дмитриевной на почтовых.
По приезде нашем обратно в Марьино, чрез несколько дней, в конце декабря 1854 года, из Сибири приехала мать моя с семьею. Несказанно тяжело было мне, увидевшись с своею семьею, не найти посреди ее дорогого отца моего.
Последующая моя жизнь в России потянулась для меня в непрестанных заботах и хлопотах об осиротевшей семье моей, оставшейся, за исключением небольшой, заслуженной отцом пенсии, почти без всяких других средств к существованию. Прежде всего я устроила двух маленьких братьев в пансион, а потом стала хлопотать о помещении их на казенный счет корпуса. Поэтому надо было самой ехать в Петербурга, куда я и отправилась в мае месяце 1855 года. Для меня был трудный подвиг решиться совершенно одной ехать в незнакомый город, где я не имела никого из близких; но делать было нечего; полная надеждой на успех, я все-таки довольно бодро отправилась туда.
Приехав в Петербурга, я остановилась у одних моих знакомых. На другой день, скрепя сердце, я отправилась в Главный Штаб, где начальником в то время был генерал Путята. Спустя долгое время, вышел генерал и обошел по очереди просителей. Личность и прекрасные его манеры пленили меня сразу. Он учтиво спросил о моем деле и, узнав в чем оно состояло, сказал, рассмотрев бумаги, что братья мои имеют полное право на поступление в корпус, если только, прибавил он, попадут в очередь; но что просьба должна быть подана в сентябре, а не в мае, почему и не может быть теперь принята. Так я и уехала из Петербурга с подорванной уже надеждою на успех поместить братьев, тем более, что познакомившись с некоторыми родственниками декабристов: братом П. С. Бобрищева-Пушкина, Михаилом Сергеевичем Бобрищевым-Пушкиным, и отыскав свою старую приятельницу, дочь декабриста Анненкова, вышедшую замуж и поселившуюся в Петербурге, я еще более разочаровалась в успехе моего предприятия, так как они все говорили, чтоб я не рассчитывала много на любезные обещания высокопоставленных лиц: что они все обещают, да мало исполняют. Возвратившись с разбитым сердцем назад, я в октябре должна была опять ехать в Петербург, но только с меньшею надеждой на людей, а с большим упованием на помощь Божию, которая и выказалась вскоре чудным образом. Надо сказать, что когда был назначен день моего отъезда из Москвы, одни мои знакомые очень упрашивали меня остаться до другого дня, чтоб присутствовать у них на маленьком вечере. Конечно, такая отсрочка ровно ничего не значила, но как иногда бывает нужно следовать внутреннему влечению. Хотя меня очень привлекало быть на вечере, но я не могла побороть внутреннего требования ехать именно в назначенный мною день; сколько я ни колебалась, но все-таки настояла и поехала в тот же день. В вокзале железной дороги встретила меня Марья Кирилловна Нарышкина, которая, зная мою дикость, приехала меня проводить. Вагон был полон, когда мы вошли в него. Усевшись и оглянувшись вокруг, я несколько испугалась непривлекательного вида окружавшей меня компании; одно только место как раз против меня, было свободное, я и молила Бога, чтоб сел кто-нибудь из людей более порядочных; на мое счастье входит военный очень приличный господин, садится, берет книжку и в продолжение всего дня читает ее. Я совершенно успокоилась, но на одной станции входит в вагон какой-то старый, очень некрасивый господин, неряшливо одетый, подходит прямо к моему vis-a-vis и дружески здоровается с ним; меня испугала неприятная наружность вошедшего, но, к счастью, поезд скоро двинулся, и он ушел, а мой vis-a-vis снова принялся за чтение. Приходить ночь, vis-a-vis, заметив, что я никуда ни на одной станции не выходила, обратился ко мне с просьбою поберечь ему, пока он пьет чай, соседнее, опустевшее место, прибавив, что он едет из Варшавы и четвертую ночь не спит. Я обещала. Вернувшись, он поблагодарил меня и обратился с вопросом, куда я еду, и, узнав, что я хлопочу о помещении братьев в корпус, сказал мне:
— Позвольте записать фамилии ваших братьев; с этим же поездом едет тесть г. Путяты; на следующей станции я его увижу и попрошу замолвить словечко зятю о вашей просьбе.
Я поблагодарила его и, конечно, очень обрадовалась такому не¬ожиданному случаю. На следующей станции почти весь вагон опустел; все ушли ужинать. Оставшись почти одна, я чрез несколько минут услышала позади меня шум, и, оглянувшись, с испугом заметила того же неприглядного старика. Мой vis-a-vis представил мне его:
— Генерал Пашков, тесть генерала Путяты.
Он очень добродушно и любезно отнесся ко мне, обещался исполнить все, что только будет от него зависеть, записал мой адрес и просил прежде его не являться к Путяте, сказав, что он сам через три дня приедет сообщить мне ответь г. Путяты. Я не знала как благодарить Бога за такую неожиданную помощь. Мой vis-a-vis был некто Баранов, которого я тоже благодарила сердечно. Приехав в Петербург, я рассказала знакомым о моей счастливой встрече с г. Пашковым; меня всячески старались разочаровать: «Ждите его обещания и пропускайте время», — говорили мне все и опять смутили меня страшно; но торжество мое было полное, когда Пашков в назначенный срок привез мне ответ, чтоб я представила все бумаги г. Путяте, и просил передать их ему, а он уже сам отдаст их зятю. Таким образом, через, него Господь помог мне поместить обоих братьев во 2-ой Московский кадетский корпус. Только что я немного успокоилась от всех этих треволнений как приезжает из Киева моя старшая замужняя сестра с тремя маленькими дочерьми, у которых отец подполковник Нога, вследствие расстройства своих дел, сошел с ума. Он тоже служил при кн. Горчакове в Сибири в Томске и Омске полицеймейстером и, быв необыкновенно честным человеком, отличался, особенно в Томске, необычайною распорядительностью, уничтожил почти все грабежи, бывшие до него и наводившие панический страх на жителей Томска; так что при ревизии гр. Толстым Томской губернии, он обратил на себя особенное внимание гр. Толстого и получил орден за отличную и примерную распорядительность. Переведенный потом в Омск, он не захотел подчиняться прихотям генеральши Шрамм, имея поэтому поводу неприятности с кн. Горчаковым, и вышел в отставку; но, будучи всегда честным тружеником, не нажил себе, конечно, состояния, хотя и мог бы обогатиться даже в Томске. Он переехал к себе на родину в Киев, стал более и, имея семью, не вынес лишений и кончил сумасшествием. Дети подрастали и требовали воспитания, сестра и привезла их к нам. Мне же опять пришлось хлопотать за них. Настало время коронации императора Александра Николаевича и я надеялась что-нибудь сделать; прожила с месяц в Москве, но ничего не успела; трудно было в такое суетливое время имеет доступ к тем лицам, от которых зависело дело. Под конец, уже когда двор уехал из Москвы, я случайно встретилась у одних знакомых опять с генералом Пашковым. Обрадовавшись этой встрече, я рассказала ему о своих новых хлопотах и о совершенной своей неудаче. Он был настолько добр, что снова предложил мне свои услуги и сказал, что справится в Петербурге и напишет мне, что нужно будет предпринять. Вскоре я получила от него известие, что мне нужно самой опять приехать в Петербург, куда в ноябре я и отправилась. Однако, мне с девочками было гораздо больше хлопот, чем с мальчиками, не смотря на деятельную помощь того же доброго г. Пашкова. Главное затруднение состояло в том, что не было нужных бумаг у детей, а сумасшедший отец не выдавал их. Сколько раз ни ездила я вместе с Пашковым в канцелярию императрицы к секретарю г. Морицу, человеку произведшему на меня самое отрадное впечатлите своею человечностью и деликатностью, но без бумаг ничего не могла сделать. Тогда я решилась подать лично просьбу на высочайшее имя. Написала сама на имя императрицы Марии Александровны просьбу и поехала в Царское Село, где еще находилась царская фамилия и где, казалось мне, было удобнее подавать просьбу. Рано утром, 21-го ноября я была уже в Царском. Взяв извозчика, я велела везти себя в ближайшую гостиницу к дворцу, которая оказалась довольно грязною; но выбирать было некогда. Номер был очень плоховат. Извозчик дорогой рассказал мне, что во дворце по случаю праздника есть обедня, что туда всех пускают и государыня вероятно будет там. Я, оставив в гостинице свои вещи, прямо на том же извозчике отправилась во дворец к обедне; остановившись у подъезда, я робко, не зная куда идти, поднялась по лестнице наверх. Проходя залы, ведущие в церковь, наполненные придворными, я невольно смутилась, думая туда ли я иду, и не знала идти ли дальше; но они заметили мое смущение и учтиво указали дорогу в церковь. Церковь поразила меня своей красотой, она была голубого цвета и покрыта золотыми звездочками, пол устланный дорогими коврами, впереди стояли бархатные кресла и мягкие стулья. Я сначала все поджидала прихода императрицы, но она, как оказалось после, не была у обедни по нездоровью. Тихое, стройное пение придворных певчих невольно вызывало у меня слезы от страха, как я решусь одна, без руководителя, подавать прошение. Помолясь усердно Господу, я предалась на Его святое милосердое. Обедня кончилась, все стали расходиться; я, смущенная, последовала за другими и запуталась в коридорах, не зная как и куда выйти; расспросив как пробраться в колоннаду, о которой мне прежде говорили, я только что вошла в нее, как вижу подают одиночные сани; спрашиваю у кого-то:
— Для кого эти сани? — Государь сейчас едет на парад в Петербург, — ответили мне.
У меня сейчас мелькнула мысль не подать ли ему тут прошение? Я пошла дальше, вдали стояла группа офицеров; подойдя к ним, я остановилась; некоторые спросили меня, что мне нужно?
Я ответила, что я приехала из Сибири и желала бы видеть государя. Один из офицеров немец спросил меня, не хочу ли я подать просьбу государю, — я ответила отрицательно, потому что Пашков и многие другие предупреждали меня, чтоб я не всем рассказывала, что хочу подавать просьбу императору. Вдруг все зашевелились. «Государь едет!» — пронеслось по саду; меня поставили ближе к решетке. Государь выезжал шагом из-за решетки в колоннаду, все обнажили головы; государь, проехав мимо меня, вдруг остановился и громким, строгим голосом, смотря вперед, спросил:
— Кто вы такой?
Тихим, дребезжащим голосом отвечает кто-то:
— Вашего императорского величества верноподданный такой-то.
— А разве вы не знаете, что мои верноподданные передо мной шапки снимают? — также строго и громко заметил государь.
Мы все невольно оглянулись и увидали стоявшую несчастную фигуру какого-то человечка, с поднятою кверху просьбою, забывшего снять шапку.
— Отведите его к дежурному флигель-адъютанту и скажите, чтоб рассмотрел просьбу! — сказал гораздо уже мягче государь, и поехал дальше.
Несчастного окружили офицеры и повели дальше; я же осталась как громом пораженная этою сценой; у меня сжалось сердце от предстоящего и мне самой подвига подания прошения и также полного незнания правил для этого. Куда же, думаю, мне идти? Офицер-немец, уже немолодой и очень добрый на вид, заметив мое смущенное состояние, опять, когда все разошлись, обратился ко мне, повторяя вопрос, не думаю ли я подать просьбу? С участием сделанный им вопрос внушил мне к нему доверие, и я решилась ему сознаться. Он, узнав, что просьба у меня написана на имя императрицы, заметил мне, что она только и может быть подана императрице, а не другому кому. Он принял живое участие во мне, рассказал подробно на мой вопрос, где я могу увидать императрицу, объяснил, что она в два часа всегда гуляет по саду, и тут я могу легко подать ей просьбу. Он повел меня по Царскосельскому саду, показывал черных лебедей и, расставаясь, пожелал полного успеха. Оставшись совершенно одна в неизвестном саду, я пошла бродить по расчищенным и указанным мне офицером дорожкам, где обыкновенно гуляет императрица, ожидая ее выхода. Долго бродила, я в тревожном ожидании; сначала много гуляющих встречалось мне, потом сад начал пустеть; начал перепадать маленький снежок и сделалось довольно сумрачно, а императрицы все нет, как нет. Страх запал у меня на сердце; а что может быть она по этой погоде совсем не пойдет, что мне тогда делать? Силы стали мне изменять, так как я с утра ничего не ела; отдохнувши немного на скамейки и собрав последние силы, я поплелась опять по алле, ведущей ко дворцу. Вдали показалась какая-то группа, я направила к ней свои шаги; подойдя ближе, я увидала очень быстро идущую, одетую в черное, женщину, окруженную мальчиками и собачками, покрытыми красными попонами. Она так скоро шла, что я, приняв ее за придворную даму с детьми, посторонилась, дав им дорогу. Поднявшись выше, я встретила немца-офицера, который обратился ко мне с словами:
— Ну что подали императрице просьбу?
— Какой императрице, она еще не выходила! — растерянным голосом отвечала я.
— Как не выходила, она ведь сейчас прошла мимо вас, поспешите поскорее обогнуть эту аллею и дойти до той решетки, за которую не пускают уже посторонних, раньше ее прихода,— сказал он несколько рассерженным голосом на мою глупую оплошность. Как я ни спешила к решетке, но, подойдя к ней, увидала, что императрица, опередив меня, уже была за ней.
Положение мое было ужасное; я впала буквально в отчаяние; досада на себя, на свою глупость, терзала невыносимо мое сердце; я не знала, что мне делать; разбитая и усталая, я еле тащилась по дорожке, как вдруг слышу за собой шлепанье калош, чаще других встречавшегося мне какого-то офицера. Он прошел мимо меня, оглянулся и, вернувшись, обратился с вопросом:
— Видела ли я великих князей и с кем они прошли?
Я отвечала очень сухо:
— Не знаю с кем, кажется с государыней.
— Как, кажется, вы разве не знаете ее?
— Не знала, но мне сказали после, что это она.
— Стало быть, вы нездешняя? Откуда же вы, из Петербурга?
— Да, из Петербурга.
— Постоянно там живете?
— Нет.
— Так вы московская?
— Нет, не московская.
— Так откуда же вы? — приставал он ко мне с своими докучливыми вопросами.
— Из Сибири, — угрюмо отвечала я ему.
— Есть ли у вас знакомые в Царском?
— Никого нет.
— С кем же вы приехали?
— Одна.
— Как одни, где же вы остановились?
— Сама не знаю, в какой-то гостиннице, куда привез меня с вокзала извозчик и теперь, не зная ее названия и местности, я не знаю даже как и дойти до не.
— Вы что же приехали? у вас есть просьба?
— А вам что за дело? — ответила я ему сурово, вспомнив, что мне не советовали говорить об этом.
— Да может быть я могу вам быть полезен?
— Вы! не думаю!
— Отчего же? — я дежурный флигель-адъютант.
Тогда взглянув на него пристальнее и заметивши на нем аксельбанты, я, нисколько не растерявшись, спросила:
— А фамилия ваша?
— Граф Апраксин.
— Ну, это другое дело.
— Я обязан даже, если вы имеете просьбу к императору, принять и передать ее.
— Моя просьба к государыне.
— Жаль, тогда я не имею права принять ее; почему же вы пропустили удобный случай и не подали ей?
— Я не знала, что это императрица.
— Что же вы думаете делать теперь?
— Остаться до завтра, хотя для меня это будет ужасно, мне еще надо отыскать гостиницу, где я остановилась.
— Позвольте мне вас проводить.
— Я обрадовалась его предложению.
Выйдя с ним на площадь, я совсем не узнавала местности и не знала, где была та гостиница, в которой я остановилась; но к моему счастью попался тот самый извозчик, который вез меня с вокзала; я тотчас его узнала и закричала ему, чтоб он нас довез.
— Хороша гостиница? — спрашивает меня гр. Апраксин.
— Не очень.
— А можно мне войти с вами?
— Пожалуйста.
Взошли мы в номер, который был довольно грязен и темен.
— Ах, как тут дурно! — воскликнул он. — Разве нет лучших номеров? — обратился он к стоявшему со свечой коридорному.
— Есть, но дороже, рубля на два.
— Это для меня слишком дорого, — поспешила я сказать.
— Позвольте мне вам нанять.
— С какой это стати? — гордо ответила я, взглянув прямо ему в глаза.
— Мне ведь это ничего не стоит.
— Благодарю за внимание, но остаюсь тут же в этом номере — Так позвольте несколько минуть пробыть с вами?
Я воспользовалась его присутствием, чтоб показать, по форме ли написана моя просьба. Оказалось, как следует; он, повертевшись, опять говорить:
— Как здесь холодно! Вам не холодно?
— Нет, не холодно.
— Что же вы не обедаете?
— Не хочу.
— Как не хотите? — да ведь я все время в саду следил за вами, только боялся подойти к вам, вы так сурово смотрели, и знаю, что вы еще не кушали. Позвольте мне взять вам обед?
— Благодарю, я не хочу есть.
— Какая вы гордая!
Посмотрев на часы, он воскликнул:
— Уж 5-т часов, скоро приедет государь из Петербурга, а мне нужно еще пообедать; да как же вы-то останетесь без обеда? — позвольте мне хоть с царского стола прислать обед, ведь это не мой, а царский. На мой решительный отказ он воскликнул:
— Видно, что вы сибирячка, где много гордости.
— То есть достоинства, хотите вы сказать, — заметила я ему.
— Однако, прощайте, мне пора идти, да как же вы одна останетесь, можно мне вечером зайти к вам?
Я молчала.
— Так верно вам неприятно мое посещение?
Я опять молчу.
— Ну так прощайте, если случится когда вам в Петербурге подавать просьбу императору, спросите в дежурной комнате флигель-адъютанта графа Апраксина, я всегда буду к вашим услугам. Впрочем, если и здесь что нужно будет, то пришлите, я все доставлю вам.
Сказав это, он протянул мне руку. Так мы простились, и я его больше никогда не видала. Нервы мои в продолжение всего дня были так натянуты, что, по его уходе, мне сделалось дурно. Я впала в свое каталептическое состояние, которое с большим трудом сдерживала в его присутствии. Очнувшись часов в 9-ть вечера и почувствовав холод, я закуталась в шубу и заснула, не раздеваясь. Проснувшись на другой день, хотя я и чувствовала большую слабость, но пошла в собор к обедне. Я насилу могла дойти назад; сильный ветер отнимал у меня и физические, и нравственные силы; в страхе я предполагала, что в такой ветер императрица не пойдет гулять, а мне за неимением с собой денег нельзя было уже оставаться дольше. Напившись чаю, чтоб несколько подкрепиться, я в час дня снова пошла в сад, который на этот раз был почти пуст. Опять долго бродила я по его аллеям, и под конец, изнемогая совсем, стала ходить взад и вперед по аллее, ведущей во дворец. Начало смеркаться, а императрицы все нет как нет. Я шла, опустив голову, и вдруг услышала опять какой-то шум. Я присмотрелась и увидела вдали нескольких офицеров в красных фуражках, идущих мне на встречу. Мне стало досадно на них, что они могут быть свидетелями моего неприятного положения при подаче просьбы; желая рассмотреть их хорошенько, я взглянула в лорнет и представьте мой ужас, когда в этой группе я узнала государя под ручку с государыней, а впереди их великих князей в красных фуражках. Все они быстро приближались ко мне на встречу. Я пришла в такое смущение, что кажется если б была возможность, то куда-нибудь ускользнула бы. Однако, подавив смущение, внутренне перекрестившись и держа в руках просьбу, я пересекла им дорогу; великие князья, как только заметили, что я хочу подойти, тотчас посторонились и дали мне дорогу. Государь с императрицей остановились; я поклонилась им, подошла прямо к ней и с волнением сказала:
— Ваше величество, я имею к вам просьбу.
— Что вам угодно? — спросила она тихим голосом, взглянув на меня своими кроткими глазами. Я, вместо ответа, подала ей свою просьбу; она приняла ее и, держа в руках, сказала: «Хорошо». Государь же в это время, осмотрев меня с ног до головы, спросил:«Кто вы такая?» Я назвала себя, посмотрев прямо ему в глаза. Он еще раз повторил: «Как фамилия?» Я ответила. Он, поклонившись, сказал: «Хорошо». Я тоже поклонилась, и они пошли в одну сторону, а я в другую. Я спешила, чтобы не опоздать на поезд, наскоро взяла в гостинице свои вещи и отправилась в Петербурга. На другой день, я вместе с Пашковым опять поехала в канцелярию императрицы и горе мое было велико, когда тот же секретарь ее, г. Мориц, ответил мне, что несмотря на то, что я лично подавала просьбу императрице, без формулярного списка отца девочек, невозможно ничего сделать. Когда же на мое несмелое замечание, не может ли он сам, как секретарь императрицы, потребовать этих бумаг? он, ухватившись за эту мысль, воскликнул: «Как это мне прежде в голову не приходило, ведь это возможно и я непременно это сделаю; а вы теперь же можете спокойно отправляться домой».
Весной, к моей великой радости, я получила от него формальное уведомление, что одна из племянниц (а я хлопотала о двух) зачислена в Московский Елизаветинский институт пансионеркой императрицы. Я даже заплакала, получив такую неожиданную радость. Поблагодарив Господа за устройство девочки, я начала хлопотать и о другой, с которой тоже не мало было труда. Но мне в этом очень помог генерал-адъютант Ник. Ник. Анненков, которого, как уже сказано мною раньше, в бытность его на ревизии в Западной Сибири в 1851 году, я знала в Тобольске. Мне не приходилось еще обращаться к нему в Петербурге с моими делами, которые, благодаря г. Пашкову, Бог помогал мне обделывать; но, при помещении другой племянницы, статс-секретарь Гофман начал делать затруднения, и нужно было иметь рекомендацию от более высокопоставленного лица, почему я и обратилась к Н. Н. Анненкову, который в то время был государственным контролером в Петербурге. Я поехала к нему с его двоюродной племянницей генеральшей Ивановой, моей хорошей приятельницей (дочерью декабриста Анненкова). Ник. Ник. принял меня так любезно, как старую свою знакомую, наговорил кучу любезностей, как это бывало и в Тобольске, и даже упрекнул, когда узнал, что я не в первый уже раз в Петербурге по делам, что как же я, имея такого старого друга, не обращалась к нему. Я поблагодарила за его доброту и объяснила, что мне теперь нужна для генерала Гофмана рекомендация о моем покойном отце, которого он хорошо знал в Тобольске. Анненков обещал вечером же прислать мне письмо к Гофману. И в самом деле, часов в 10 вечера вдруг отыскивает меня курьер с пакетом на мое имя; распечатав его, я нашла копию с письма Анненкова к Гофману и записочку ко мне, где он писал, чтоб я прочитала эту копию и ответила бы ему, довольна ли я ею. Письмо об отце было очень лестно написано, и я храню его у себя до сих пор. Но другой день, я передала уже настощее его письмо Гофману; но он так медлил своим решением, а время уходило, что я была принуждена снова обратиться к Анненкову, который прямо уже сам просил императора, и вскоре я получила бумагу, что по особому ходатайству генерал-адъютанта Анненкова, помещена и другая моя племянница в Московский Екатерининский институт пансионеркой императора. Так Господь помог мне, несмотря на мою немощь, устроить осиротелых детей.
В коронацию покойного императора Александра Николаевича, в 1856 году возвращены были все декабристы из Сибири. Вестником их свободы был сын декабриста же, князь Михаил Сергеевич Волконский, посланный в Сибирь курьером с милостивым манифестом. Вскоре большая часть из них перебралась на родину, а некоторые предпочли остаться в Сибири, где жизнь удобнее и дешевле для людей, не имеющих больших средств. Мы были очень обрадованы приездом к нам в Марьино возвратившихся наших дорогих друзей: Павла Сергеевича Бобрищеева-Пушкина, Свистунова, Пущина, Басаргина и многих других, прострадавших более 30-ти лет в изгнании.
Воспоминания о декабристах (Из бумаг М. Д. Францевой)//Исторический вестник. 1917. Т. 147. С. 694–715
[Прим. редакции: Воспоминания М. Д. Францевой о жизни декабристов, в Сибири, преимуществено супружеской четы Михаила Александровича и Натальв Дмитриевны Фонвизиных, печатались в «Историческом Вестнике» 1888 года (май, июнь, июль) и в то время обратили на себя внимание своею искренностью и правдивостью. В виде дополнения к ним печатаются нынешние о декабристах, сохранившиеся в бумагах М. Д. Францевой и сообщенные ею редакции «Исторического Вестника».]
В сибирском народе много было в наше время хорошего в нравах, радушным гостеприимстивом тоже отличается он немало, особенно перед здешними русскими. Бывало, помню я, когда случалось нам проездом из Тобольска в Омск на протяжени и 600 верст останавливаться в деревнях у так называемых передаточных, то хозяйка закормит всем, что у нее есть в запасе, и Боже сохрани, чтобы она когда-нибудъ взяла за это плату; это надо ее обидет, если за ее радушное угощение вы предложите ѳй что-нибудь заплатить. «Господь еще не обидел нас Своею милостью», ответит она вам обидчивым тоном. Правда, что крестьяне живут там зажиточно, земли много, лесу тоже, разве уж особенный лентяй или негодяй какой-нибудь, при тех удобствах, которыми пользуется, живет бедно. Вообще в Сибири за оказанную услугу другому с негодованием отвергалось всякое вознаграждение, тогда как здесь, в России, шагу не сделают даром для другого. Я ужасно любила сибиряка за его прямоту и понимание своего личнаго достоинства. Униженного подобострастия он совершенно был чужд. Придет, бывало, к вам какая-нибудь усталая торговка или молочница, с молоком и, чувствуя утомление, она, нисколько не стесняясь, сядет возле вас отдохнуть, и этим она нисколько не хочет сравняться с вами или умалить ваше превосходство перед ней, или оказать вам дерзость, показать равенство — ничего подобного, она только этим показывает, что, как человек уставший, она имеет полное право в присутствии вашем присесть отдохнуть, не переставая в то же время быть учтивой и почтительной относительно вас.
Вообще следует сказать о сибирском народе, что он удивительно как выше развит умственно перед русским мужиком. В Сибири никогда не было крепостного права, почему народ выработался более самостоятельным, с своими убеждениями. Благодетельнейшее влияние прямого, простого благорасположенного обращения декабристов развило в них высокое понимание достоинства человеческой личности. Сибиряк обыкновенно не хвастлив, он не вдруг выразит свой взгляд, свое мнение, оначала выслушает, в чем дело, подумает, скажет: «Что же, и мы, скажет, сумеем сделать это». И наверно, если возьмется за что, то сделает хорошо. Еще отличительная черта сибиряка, это большая чистоплотность. Когда, бывало, проезжаешь деревнями, то, куда ни взойдешь, в самую ветхую избенку, чистота вас невольно поражает. Пол чисто вымыт, устлан чистым холщевым половиком, на столе безукоризненной белизны скатерть, в переднем углу святые иконы, кровать с периною, покрытая непременно чистым одеялом. Декабристы были все люди умные, образованные, прекрасно воспитанные, сохранившие утонченную вежливость высшего общества, к которому они некогда принадлежали, а вместе с тем, прошедши тяжелые испытания в жизни и узнав всю превратность ее, у них выработались необыкновенная простота и добродушие. Они относились ко всякому человеку, ценя в нем прежде всего человеческое достоинство, почему и были чужды всякого самомнения. Всем было как-то легко и хорошо с ними. Отдавая им в то же время полное предпочтение, никто также не чувствовал себя униженным перед ними и подавленным их превосходством. Их умные, серьезные, а иногда полные остроты и игривости беседы доставляли истинное наслаждение.
М. А. Фонвизин и Н. Д. Фонвизина
Михаил Александрович был сын Александра Ивановича Фонвизина, родного брата известнаго Дениса Ивановича Фонвизина, Отец Михаила Александровича женился на двоюродной сестре своей, вследствие чего Мамоновы оспаривали законностъ этого брака, желая лишить детей его права на наследство Мамоновскаго огромного имения, что и побудило Александра Ивановича поместить в военную службу сына своого, Михаила Алексаидровича, едва достигшего 15-летнего возраста; и точно, за отличие его по службе, Высочайше утверждены были права его на Мамоновское наследство.
Михаил Александрович служил в Измайловском лейб-гвардии полку и произведен в офицеры под Аустерлицем в 1805 году. В 1812 году он был адъютантом у начальника штаба, Алексея Петровича Ермолова, который особенно любил и уважал его и даже в своих записках упоминает о нем: «При Малом Ярославце, — пишет Ермолов , — храбрые адъютанты мои поручик Фонвизин и артиллерии поручик Поздеев чрезвычайно мне способствовали всюду, куда ни посылал я их, не менее верил им, как самому себе». Во время кампании Михаил Александрович скоро дослужился до полковничьего чина, так что в 1813 году ему вверено было командование полком. В 1814 году он находился в авангарде в городе Ргоѵins, где девизионный командир назначил ночлег и велел дать отдых, солдатам, расположенным по квартирам. Ночью маршал Удино напал врасплох на наш авангард; русские ударили тревогу, и войско выступило, не успевши одеться, с одними ружьями в руках. Тут был взят в плен весь отряд русский, в том числе и Михаил Александрович Фонвизин и Константин Маркович Полторацкий. Французы сняли с них обувь и мундиры. Маршал же Удино, увидев пленных, велел тотчас Фонвизина снабдить одеждой и с рекомендательным письмом к друзьям своим отправил его в Париж, где он жил на свободе и ласково был принят. Когда союзные войска стали подходить к Парижу, всех пленных отправнли в Бретань, в город Марьяк? Там находились несколько тысяч пленных русских и австрийцев.
Между жителями было много роялистов. Фонвизин, узнав от них, что дело Наполеона проиграно, решился поднять белое знамя, уговоривши на это заранее всех русских пленных; они завладели арсеналом, обезоружили караулы и сделались хозяевами в городе, объявив его на военном положении. Австрийские офицеры побоялисъ принять участие в этом деле; лишь один из них, славянин, уговорил австрийских рядовых пристать к русским. На подкрепление к войску Наполеона шел, между другими, конно-егерский полк, которому следовало пройти через городъ. Фонвизин согласился на это под одним условием, чтобы полк прошел через город обезоруженный. Оружие же на подводах следовало за полком.
По вступлении союзников в Париж государъ Александр Павлович очень сухо принял Фонвизина, бывши недоволен его самоуправством; но вслед за тем Фонвизин, будучи представлен королю Людовику XVIII, был осыпан его ласками и удивился, встретив во дворце мушкатеров знакомого герцога де Брисака, который незадолго перед тем был принят юнкером в Семеновский полк.
В 1816 году Фонвизин командовал полком в корпусе гр. Воронцова, командовавшего оккупационным русским отрядомъ во Франции в течение трех лет. Возвратясь в 1818 году в Россию, в эпоху аракчеевокого владычества, он не мог вынести новых порядков и вышел в отставку; но в скором времени граф Петр Александрович Толстой, который командовал корпусом в Москве, упросил Фонвизина вновь поступить на службу и назначил его командиром Егерского полка, где он устроил на свой счет юнкерскую школу. Узнав об этом, граф Дибич при посещении школы до того был восхищен этим учреждением, что представил государю проект об учреждении для юнкеров казенных школ.
Михаил Алсксандрович Фоивизин так был любим и уважаем офицерами полка, что при выходе его в отставку офицеры поднесли ему на память золотую шпагу. Насколько же он был обожаем и солдатами за свое кроткое и человечное обхождение с ними (у него в полку запрещено было давать телесное наказание), доказывает следущий эпизод из его казематной жизни. Когда впоследствии образовалос так называемое тайное общество, Фонвизин вступил в его и принимал в нем деятельное участие. 14-го декабря 1825 года он лично не был замешан в деле, будучи в своей подмосковной деревне Крюкове, теперешней Крюковской станции по Николаевской железной дороге. Здесь он был арестован, увезен в Петербург и посажен в Петропавловскую крепость. Во время его заточения в крепости случилось однажды быть в карауле солдатам того полка, которым он прежде командовал; во время его прогулки по берегу Невы, вокруг крепости, под конвоем этих солдат, они, рискуя жизнью, убеждали и умоляли его воспользоваться свободой и бежать. Как он ни был тронут и поражен такой преданности с их стороны, но, конечно, не согласился ради своей свободы подвергнуть их наказанию и в то же время ухудшить положение своих товарищей, которые после его побега подверглись бы, конечно, еще более строгому надзору.
В начале ссыльным не дозволялось писать к родным, и Наталья Дмитриевна, волнуемая потоянными советами жандармского генерала Волкова, который имел тайное приказание от правительства склонить ее отложить свою поездку хотя до тех пор, пока полуучится известие о муже, решиласъ по своему глубокому религиозному чувству поехать помолиться преподобному Сергию в Троицкую лавру и действовать потом, как Бог положит ей на сердце. Там с ней был знаменательный случай, коим Провидение видимым образом указало ей на то, что ей следовало ехать в Сибирь к мужу.
Итак, она отправилась в монастырь с своей молодой кузиной, в сопровождении одного слуги. Посетив одного затворника, к которому пошла вместе с своей кузиной и лакеем, она была поражена прозорливостью старца, который при входе прямо, без всяких вопросов дал ей крестик с следующими словами: «Отвези тому, к кому едешь».
Эти немногие, но знаменательные слова старца тотчас ее успокоили; она ясно поняла из них, что муж ее жив и она, должна к нему ехать; тем более она уверилась в прозорливости святого старца, что тот, обратившись тут же к молодой девушке, ее кузине, желавшей очень выйти замуж, также не дождавшись с ее стороны вопроса, сказал ей: «В настоящем году выйдешь замуж», что и сбылось потом в точности. Лакею же, сидевшему по его указанию вместе с господами, сделал обличение, сказав: «На тебе лежит тяжкий грех, покайся в нем». Наталья Дмитриевна, вернувшись домой, узнала от людей, что однажды на исповеди священник не разрешил этому человеку приобщиться Святых Таин, но он, стыда ради человеческого, незаметно проскользнул между народом и приобщился самовольно Св. Таин, что потом его очень смущало и тяготило.
Пушкин очень верно охватил основные черты ее характера, ее юную наивную душу, но твердую в исполнении своих обязаностей. Пушкин взял тип Натальи Дмитриевны из юной ее жизни в богатом костромском поместьи ее отца, где она развивалась вдали от мелочной суеты столичной жизни, где ее наивная, легко верящая во все хорошее натура в то же время крепла в глубоком религиозном чувстве покорности воле Божией, художественно передал все главные черты ее характера в лице Татьяны в своей знаменитой поэме «Евгений Онегин».
Но толчок разочарования в верности человека, к которому она так было доверчиво отнеслась, не заставил ее потерять веру в людей, что она и доказала впоследствии, сумев отличить настоящее от ложного. Она оценила великодушный поступок своего двоюродного дяди Михаила Александровича Фонвизина, разорвавшего долговой вексель ее отца, и приняла его предложение стать его женой. Не «тупо покоряясъ», как ошибочно сказано у Пушкина, воле родительской, ставши, как будто, после разочарования равнодушной ко всему окружающему, она пошла за него добровольно, имея ввиду, с одной стороны удовлетворить самолюбие отца, с другой, отплатить Михаилу Александровичу за его благородный поступок. Сделавшись женой генерала, она дала сильный отпор на балу бывшему ее ухаживателю, как говорит Пушкин в своей поэме, и это доказывает твердый в правилах и исполненный обязанностей ее характер. Не имея страстного увлечения, она тем не менее привязалась и полюбила мужа за благородные чувства, что и оправдала своею твердою решимостью не покидать его в несчастии, следуя за ним в изгнание, на каторгу, несмотря на мольбы отца и матери.
Михаил Александрович обожал ее в полном смысле этого слова до последней минуты жизни. Она своею глубокою религиозностью имела огромное влияние на него, так что под ее влиянием из человека равнодушного к религии он сделался горячо верующим. Его прямая чистая душа легко поддавалась всему возвышенному и прекрасиому.
Н. Д. Фонвизина по возвращении из Сибири и замужество ее с И. И. Пущиным
Наталья Дмитриевна была замечательного ума, необычайно красноречива и в высокой степени духовного религиозного развития. В ней много было увлекательного, особенно когда она говорила, так что перед ней невольно преклонялись все слушатели ее. Память у нее была удивительная, она помнила даже все сказки, которые рассказывала ей в детстве ее няня, и так умела передать живо и картинно все, что видела и слышала, что простой разсказ ее увлекал каждого из слушателей; характера она была твердого, решительного, энергичного, но вместе с тем очень веселого, несмотря на то, что жнла больше внутренней жизнью, мало обращая внимания на суждения или пересуды людские.
По возвращении из Сибири, после кончины Михаила Александровича Наталья Дмитриевна должна была заняться приведением в порядок дел по доставшемуся ей по наследству от Ивана Александровича Фонвизина огромному имению, но расстроенному до крайности. Она в продолжение двух лет решительно не имела отдыха. Приходилось разъезжать по разным своим имениям, находящимся в нескольких губерниях, чтобы иметь возможность сохранить их от грозившего полного разорения. Крестьяне обожали ее и обличали пред ней все неблагородные и корыстолюбивые поступки управителей огромных ее владений, отчего возникали у нее постоянные неприятные столкновения с ними. Все это настолько нравственно и физически утомило Наталью Дмитриевну, привыкшую всегда к более отвлеченной, чем деятельной, жизни, что она решилась поехать в Тобольск отдохнуть там душою и взглянуть еще на сотоварищей покойного мужа, а своих друзей. К тому времени еще одно обстоятельство, о котором я буду говорить ниже, побудило ее решиться окончательно на эту поездку, почему в начале 1856 года она и отправилась в Сибирь, взяв с собой маленькую свою воспитанницу, привезенную ею из Сибири, родители которой оставались в Тобольске. Опасаясь же, чтобы не показалось странным правительству и всем окружающим ее путешествие в Сибирь, она устроила свой отъезд так, что никто, кроме меня, ни родные, ни знакомые, ни домашние не знали об этом. Для охраны же в дальней дороге взяла она с собою преданного и верного человека. Она выехала из Марьина в Москву, сказав всем, что едет в свои костромские имения на все лето. Одно я знала только, куда она отправлялась, и у нас с ней сделан был уговор, что когда она будет мне писать в Марьино, где я и оставалась, чтобы прочитывала письма я старой няне Матрене Петровне, как бы полученные мною из деревни, а не из Сибири, также и всем спрашивающим отвечала бы то же. Заранее условлено было названия мест костромских понимать за некоторые места в Сибири, где она должна была останавливаться.
Тайну ее я сохранила во всей полноте; никто не подозревал, что я прочитывала письма из Сибири, рассказывая как о полученных из костромских имений.
Однажды едва, впрочем, не пришлось мне выдать вверенную мне тайну. Встретила я. раз, бывши в Москве у княгини Евдокии Михайловны Голицыной, графиню Елизавѳту Петровну Потемкину, рожденную княжну Трубецкую, сестру декабриста князя Сергея Петровича Трубецкого, только что приехавшую из Петербурга, которая рассказывала княгине Голицыной, как интересное событие, что князь Михаил Сергеевич Волконский, тоже сын декабриста, состоящий на службе в Петербурге, был послан государем императором курьером в Сибирь с высочайшим милостивым манифестом по случаю коронации о прощении всех декабристов и возвращении их на родину в Россию. Князь Волконский описывает, говорила она, как он, приехавши в Ялуторовск, возбудил общий восторг и радость у всех сосланных; все бросились обнимать друг друга и благословляли императора Александра II. Он пишет также, что между ними находилась в это радостное время и Наталья Дмитриевна Фонвизина. Княгиня же Голицына, зная от меня о пребывании Натальи Дмитриевы в деревне не верила этому известию, и так как я тут же находилась в гостиной, то удивленная обратилась ко мне с вопросом, правда ли, что Наталья Дмитриевна в Сибири. Я, конечно, ради тайны должна была скрыть и ответить отрицательно, что ее там нет, что вероятно вышло какое-нибудь недоразумение в письме князя Волконского. Вскоре возвратилась и сама Наталья Дмитриевна из Тобольска, и когда она рассказывала о своем таинственном путешествии, то все очень смеялись и удивлялись моему уменью, как они выражались, хранить чужую тайну.
Вообще в характере Натальи Дмитриевны много было странного и непонятного для света. Не выносила она никакой похвалы себе, почему часто старалась выказывать себя не тем, чем была, напуская на себя вид юродства, чтобы только не считали ее за праведную, и иногда, чтобы еще сильнее опровергнуть похвалу, старалась напускным, каким-нибудь выдающимся и даже порицаемым условиями света действием нарушить хорошее мнение о ней.
До старости в ней сохранилось много юношеской восприимчивости, доходящей до самоотвержения, особенно когда касалось ее религиозной стороны и подчас экзальтированной покорности воле Божьей. Требовалось ли стеснение свободы, которой она больше всего дорожила, или другой какой жертвы для спасения ближнего, она тогда ни перед чем не останавливалась, каким бы уродством для света ни казались ее действия. Это самопожертвование ради спасения ближнего и было главной причиной ее вторичного брака с Иваном Ивановичем Пущиным, немало удивившего всех ее знакомых и даже друзей.
Иван Иванович Пущин, отличаясь либеральными идеями, принадлежал также к тайному обществу декабристов и вместе с другими был сослан в Сибирь. Как человек, он был чрезвычайно добрый, честный, милый, всеми уважаемый и любимый, но, к несчастию, как христианин, мало верующий; хотя и не уклонялся от исполнения обрядов церковных, как многие светские люди, но никогда не вникал в духовную сторону христианской жизни. Когда он, бывало, приезжал из Ялуторовска, где был поселен, в Тобольск и останавливался у Фонвизиных, то мне нередко приходилось присутствовать при их религиозных спорах. Как Михаил Александрович, так и Наталья Дмитриевна усердно старались возбудить в нем духовную внутреннюю жизнь, без чего, по их христианским воззрениям, спасение его души казалось им сомнительным, но он, по обыкновению, всегда отшучивался, говоря, что из него хотят сделать святошу, и мало поддавался их благочестивому влиянию.
Когда же впоследствии в Ялуторовске получено было из России известие о праведной и мирной кончине Михаила Александровича Фонвизина, то это грустное событие сильно поразило его, тем более что и сам он к тому времени стал уже серьезно прихварывать и невольно поддаваться унынию.
Наталья Дмитриевна не прерывала, конечно, и после смерти Михаила Александровича дружеских сношений с Пущиным, интересовалась по-прежнему его внутренней душевной работой и, как умная женщина, имела на него большое влияние. Но вместе с тем она была как громом поражена неожиданно сделанным им ей предложением. Ее экзальтированная натура тотчас же приняла это за особенное указание Провидения, требовавшего от нее новой жертвы для спасения через не прекрасной, но мало верующей души Пущина. Но в то же время в ней самой началась страшная борьба: она очень хорошо сознавала, что, решившись на второй брак, она лишится своей дорогой свободы и волей-неволей должна будет подчиняться человеку и новой обстановке жизни, тогда как ее свободная воля тяготилась всякой зависимостью.
Тайна с предложением никому не была открыта, кроме меня, с которой она делила все свои возрождающиеся и мучившие ее сомнения насчет того, что действительно есть ли на это воля Божья, как ей показалось в первые минуты. «К чему этот брак? — с сомнением восклицала она, — разве без него не может действовать благодать Божья, уже не обольщение ли это вражье?». Cтрах быть неверной в призвании Божьем охватывал ее верующую, преданную до самоотвержения душу, и она с тоской говорила мне: «Как ты думаешь, имею ли я право отказаться от требуемой Богом от меня жертвы для спасения ближнего?» Душевная эта борьба настолько ее истомила, что она, с обычной своей энергией, окончательно решилась съездить в Сибирь, как выше сказано, повидаться со всеми оставшимися там друзьями-декабристами и в то же время переговорить лично с Пущиным о несообразности их брака. При свидании же их в Ялуторовске Пущин настолько выразил ей свою глубокую преданность и уважение к ней, что она не могла не откликнуться на искренние его чувства, хотя в то же время независимая ее природа не уступала своих прав. Находясь в таком безвыходном положении, Наталья Дмитриевна писала мне из Тобольска, что для прекращения этой тягостной борьбы с самой собою решается положить за чудотворнуго икону Абалацкой Знамения Божией Матери билетик с вопросом, выходить ли ей за Пущина,или нет. Абалацкий мужской монастырь, отстоящий от Тобольска в 25 верстах, где находится чудотворная, всею Сибирью чтимая икона Божией Матери, куда, бывало, мы часто из Тобольска езжали с Натальей Дмитриевной говеть и где всегда находили отраду и успокоение. Туда-то и обратилась теперь она за помощью и уяснением своей судьбы; вынутый билет — «выходить» — не только, однако, не успокоил ее, а еще более раcстроил: она питала, как потом сама говорила, такую надежду, что эта чаша минует ее. Неисполнение же этой надежды подняло снова бурю борьбы в ней, что и заставило ее для большегоо удостоверения решиться еще испытать судьбы Божии.
Почему и положила разубедить Пущина, что в предполагаемом браке не найти ему счастъя с ней. Стараясь в письмах к нему выставить себя с самой дурной стороны и даже смешной, зная его слабость бояться d’etre radicule, ухватилась за эту мысль, выставляя себя имѳнно в более смешном виде, разсказывая ему, как в ней в 52 года снова ожила Таня Евгения Онегина с теми же будто юношескими порывами, какие были в 17 лет, наговаривая на себя при этом Бог знает какие еще небылицы. Против этого я часто восставала. «Для чего наговаривать на, себя то, чего нет?» — возражала я ей. «Чтобы убедиться последним испытанием воли Божией на этот брак, — отвечала она мне — Если Пущин, несмотря ни на какие дурные данные обо мне — ведь я ему писала то, чему поверить трудно, не переменится, то уж тогда, верно, уж нужно будет покориться воле Божьей, Его неисповедимым путям». Пущин же, зная ее хорошо, ничему, конечно, не верил, и оставался непоколебим в своем намерении, что она и приняла, как уже окончательное указание воли Божией, которой уж не смела сопротивляться.
Иван Иванович Пущин был однокашник по лицею с. Александром Сергеевичем Пушкиным. Они были большие друзья между собой. Дружба их не изменилась и тогда, когда судьба так резко разъединила их по положению в свете. Иван Иванович всегда отзывался о Пушкине, как о человеке, неизменном в своих благородных чувствах и верном в дружбе, что и доказал он в действительности. По возвращении из Сибири в 1856 году вместе с прочими декабристами Иван Иванович Пущин поселился на жительство в Петербурге, где жили почти все его родные, но здоровье его, однако, настолько уже было расстроено, что, несмотря на радость свидания с родными, он стал видимо угасать. Наталья Дмитриевна не раз ездила в Петербург навещать его больного. Познакомилась и с его родными. Врачи Петербурга находили климат Петербурга для него вредным и советовали ему для поддержания угасавших его сил переехать как можно скорее в южный климат, на что он не соглашался, а стал торопить, напротив, Наталью Дмитриевну со свадьбой, что сохранял, впрочем, в тайне от всех своих родных.
В мае месяце 1857 года они обвенчались в имении его друга, князя Эристова, бывшего единственным свидетелем при их бракосочетании. Наталья Дмитриевна после рассказывала о своем венчании: «В церкви мне казалось, что я стою с мертвецом: так худ и бледен был Иван Иванович, и все точно во сне совершалось. По возвращении из церкви, выпив по бокалу шампанского и закусив, мы поблагодарили доброго хозяина за его дружбу и радушие и за все хлопоты, отправились на станцию железной дороги и прямо через Москву на житье в Марьино, откуда уже известили всех родных и друзей о нашей свадьбе. Родные были крайне удивлены и недовольны, что все было сделано без их ведома».
Родные его, зная Наталью Дмитриевну за оригиналку, скоро примирились с этим. В самом деле, в ней так много было своеобразного, не подходящего к обыкновенному уровню светских приличий, что она и при совместной жизни своей с Иваном Ивановичем казалась совершенно вывихнутой костью, особенно когда, бывало, наедут в деревню к ним его светские петербургские родные и знакомые. В столовой тогда накрывался большой круглый стол, за которым собирались все приезжие гости. Иван Иванович любил, чтобы хозяйка сама разливала чай, и Наталья Дмитриевна в угоду ему (она раньше никогда не занималась этим делом) садилась перед самоваром и неопытной рукой, едва умея держать чайник, при общем веселии угощала гостей.
Привыкши, что в прошлой ее жизни ей все подавалось готовое, она и сама часто смеялась над своей неловкостью и не обижалась, когда и другие шутили над ее неумением управляться с мелочами домашнего обихода; но зато подчас очень тяжелой казалась ей роль быть не тем, чем она была. Уезжая по делам в свои костромские любимые имения, она там в уединении отдыхала душой. Посещать Наталью Дмитриевну в Марьино при новой обстановке ее жизни было для меня очень грустно и тяжело, да и взятая ею на себя роль, совершенно не подходящая к ней, нелегко ложилась у меня на сердце. Бывало только и душу отводили мы со старой няней Матреной Петровной, которая никак не могла освоиться с мыслью, что Наталья Дмитриевна более не Фонвизина, а Пущина. С трудом переносила и нового хозяина Марьина, хотя она всегда любила и уважала его.
Но все-таки она была самая преданная до своей смерти и горячо по-прежнему любящая слуга, друг Натальи Дмитриевны. При свидании с Иваном Ивановичем в Марьине, по приезде их после свадьбы, я была поражена страшной переменой, происшедшей в нем. Точно выходец с того света: так он был худ и бледен. Угасающая его жизнь протянулась, однако, в Марьине, вопреки приговорам петербургских врачей, еще два года. Уездный лекарь гор. Бронницы сумел как-то поддерживать упадающие его силы. Но эти страдальческие болезненные два года не прошли для него без пользы. Под влиянием любимой, горячо верующей женщины сердце его отозвалось на призыв благодатного чувства, и он скончался вполне верующим человеком, мирной христианской кончиной, в той же Марьинке, где за несколько лет назад предал дух и старый друг его Михаил Александрович, и похоронен тоже в Бронницах, рядом с могилой Михаила Александровича Фонвизина, в 1859 году.
Вскоре после смерти Ивана Ивановича Пущина Наталья Дмитриевна купила себе в Москве дом на Садовой, переехала туда на жительство и зажила снова своей прежней независимой жизнью. Устроив хорошо дела по имениям, она могла жить совершенно без забот и стеснения. Няня тоже успокоилась и в новом доме по-старому занялась хозяйством, ходатайствуя часто у Натальи Дмитриевны за бедных крестьян, обращавшихся к ней с своими жалобами о своих нуждах. Она по прямоте честного своего характера всегда высказывала правду, не стесняясь страхом быть за это в немилости.
Дом Натальи Дмитриевны в Москве был открыт для всех друзей и знакомых ее. К ней любили съезжаться все хорошо знающие и уважающие ее. Бывало, каких разнородных личностей не встретишь в ее гостиной, начиная с высшего аристократического круга сотоварищей покойных ее мужей и кончая простыми, небогатыми и нередко нуждающимися лицами. Для всех равно находила она сказать что-нибудь приятное, никак не чувствовалось натяжки, напротив, ее веселая, умная беседа заставляла забывать время, и часто далеко за полночь просиживали у нее гости, слушая ее красноречивые рассказы о жизни в Сибири. В ее многочисленных анекдотах из жизни их на каторге всегда было много юмору: она особенно умела передать живо и характеристично самый незначительный эпизод, чем и увлекала слушателей. По-прежнему любила угощать. Прислуга у нее была так поставлена, что относилась одинаково вежливо как к богатым, высокопоставленным ее посетителям, так и к бедным и незнатным, которых у нее бывало немало. В Москву часто приезжали навещать Наталью Дмитриевну друзья ее, декабристы: Михаил Михайлович и Елизавета Петровна Нарышкины из своего имения села Высокого, находящегося в семи верстах от Тулы, купленного и приготовленного сестрой княгиней Евдокией Михайловной Голицыной для своего брата, возвращенного из Сибири через Кавказ прежде еще 1856 года, где они и поселились на житье.
Елизавета Петровна Нарышкина, рожденная графиня Коновницына, единственная дочь знаменитого в 1812 году генерала Коновницына, получила блестящее образование. Прекрасно воспитанная, любимица отца, обожаемая мужем, она последовала за ним в Сибирь на каторгу, где и подружилась очень с Натальей Дмитриевной Фонвизиной, перед духовными совершенствами которой впоследствии преклонялась и благоговела. Много было в ней тоже юмору. Вспоминая с Натальей Дмитриевной о своей жизни на каторге без малейшей горечи, смеялись и шутили, рассказывая о разных эпизодах, случавшихся там с ними. Как, бывало, подходя к тюремному частоколу, просовывали свои пальчики мужьям, а грубые часовых отгоняли их ружьями, и как они ухитрялись смягчать их жестокость подачками табаку и других мелких предметов. У ней была большая способность идеализировать восторженно, к кому чувствовала симпатию. Наталья Дмитриевна, несмотря на дружбу к ней, не выносила ее увлекающихся восторгов к ней. «Опять в рамку меня ставишь, не выношу этого!» — часто останавливала она ее порывы.
Елизавета Петровна мне, как верной союзнице Натальи Дмитриевны, по ее выражению, много показывала расположения и с большим участием относилась к моей нервной болезни, постигшей меня после смерти Михаила Александровича Фонвизина и смерти моего родного отца в Тобольске. Увозила нередко к себе в имение свое Высокое и однажды уговорила меня, чтобы я приехала к ним вместе с их племянницей В. А. Нарышкиной на их сельский праздник 15-го июля, куда собиралась в этот день почти вся Тула с самоварами на целый день. Всем позволялось тогда гулять по их парку и саду. Из Москвы отправились мы туда в почтовой карете. Прекрасная местность села Высокого с каменною церковью в нескольких шагах от великолепного дома с башнями и террасами, утопающего в цветниках роз и резеды, приятно поражала посетителей. Карета наша подкатила к крыльцу, где нас радушно встретили милые хозяева. Дом большой, удобный. Для всех приезжающих гостей были отдельные комнаты, из которых открывались живописные виды. Гостей и родных к этому дню наехало из Москвы и Петербурга множество, и всем достало места.
Накануне престольного праздника отправились все к всенощной, а на другой день к обедне. С раннего утра началось уже движение приходящего народа из Тулы и окрестных сел на праздник. Съемщики с самоварами размещались в отдаленной части парка; когда мы выходили из церкви, то громадная толпы народа имели вид разноцветного ковра со своими пестрыми яркими нарядами.
На большой террасе приготовлен был чай, где все гости разместились и любовались гуляющими. После обеда начались крестьянские хороводы. Молодые деревенские девушки в венках из полевых цветов, а женщины в своих типичных кичках, парни же, молодые запевалы, в красных рубашках, водили хороводы. Заунывны наши русские мелодичные песни, в которых чувствовалась какая-то затаенная грусть неволи и зависимости бедного крепостного народа от произвола какого-нибудь барина, не знающего иногда границ своим разгулявшимся страстям. Живя долго в Сибири, не раз приходилось мне выслушивать от несчастных сосланных по воле помещиков в Сибирь их горькие и грустные истории.
Между гостей находились и несколько человек из возвращенных декабристов: Николай Иванович Лорер, Цебриков, Бобрищев-Пушкин. Юмористический склад ума Елизаветы Петровны разнообразил и сообщал непринужденную веселость обществу, хотя в ее остротах иногда и слышались колкие насмешки и попасть на ее зубок несимпатичным ей личностям бывало беда. Михаил Михайлович был более мягким, даже нежного характера, он не умел сердиться, тем более взыскивать с людей. Когда приходилось делать какие-нибудь замечания или взыскания, он обращался с просьбою к жене взять на себя эту неприятную обязанность. Она, несмотря на то что обожала мужа, часто острила над ним по этому поводу. «Хорошо нам быть в миленьких — говорила она ему: — когда что неприятное для нас, то сваливаем на других, а сами остаемся в стороне».
Больше месяца с приятностью прогостили мы в Высоком, несколько раз ездили в Тулу, а одиажды нам пришлось присутствовать на трогательном торжестве отправления ратников на войну. Преоовященный Дмитрий, бывший потом архиепископом херсонским, торжественно совершил на площади молебствие и благословлял ряды ратников на трудный путь положить животы за царя и отечество. Площадь была переполнена народом; у жен и матерей лились горячие слезы; солнышко ярко освещало будущих борцов и пригревало своими теплыми лучами.
Владыка сказал им прочувственное напутственное слово. Сам тронутый до слез, владыка был неподражаем; точно ангел Божий, стоял он среди окружающих его ратников и многолюдного стечения народа.
Декабристы. Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин, Гавриил Степанович Батенков, Петр Николаевич Свистунов, Матвей Иванович Муравьев-Апостол
Нередко также приезжал в Москву к Нат[алье] Дмит[риевне] и наш общий друг декабрист Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин. Он по возвращении из Сибири поселился с умалишенным братом своим, Николаем Сергеевичем, возвращенным с ним же вместе из Сибири, в их родовое имение Тульской губернии, Алексинского уезда, к родной сестре своей, Марии Сергеевне Бобрищевой-Пушкиной. Приезжая в Москву, он всегда останавливался в доме Натальи Дмитриевны, где наверху у нее были определены комнаты для приезжающих к ней друзей.
Каждый приезд доброго Павла Сергеевича был для всех. Знавших его, радостным и приятным. Зная его за глубоко верующего и любящего человека, все, у кого накоплялось более или менгее горечи и недовольства на душе, все облегчали тяжесть душевную с ним, веря, что он всегда примет сердечно участие в какой бы то ни было неудаче или неприятности и даст свой сердечный правдивый совет. В Тобольске его не иначе звали, как другом человечества. Наталью Дмитриевну уважал настолько, что предан был ей всей душой.
В один из приездов к ней он сильно заболел; сначала думали, что скоро поправится, но болезнь день за днем увеличивалась. Медицинские средства мало помогали. Явилась какая-то особенная сухость во рту, с большим трудом он мог пропускать пищу. Болезнь быстро шла вперед. Дыхание с каждым днем становилось затруднительнее. Видимо для всех было, что жизнь его угасала. Написали в деревню к его родным, ждали ежедневно их приезда. Он и сам начинал сознавать свое положение, но желание увидеть любимую сестру и братьев отдаляло от него мысль о близости смерти.
Не видав его несколько дней, я поражена была страшной переменой, происшедшей в нем. Печать смерти видимо лежала на нем. Я осталась ночевать и ночью сидела вместе с Натальей Дмитриевной у постели почти умирающего больного; она мне тихо говорит: «Предложи ему приобщиться Св. Тайн, сама я боюсь ему сказать, чтобы не испугать его». Оставшись одна с больным, вижу, дыхание у него становилось затруднительнее, так что при дыхании он втягивал почти всю нижнюю часть лица в себя, прося воздуха. Мечась по кровати, страдалец восклицал:
— Что же это такое? Чем же это все кончится?
Предсмертная агония, видимо, началась у него. Зная хорошо его глубокую набожность и непривязанность к земному, меня невольно смутила мысль: неужели он боится умирать и настолько не осознает своего опасного положения, что не может покориться предстоящей смерти? Собравшись с духом, подошла к нему и прямо спросила его:
— Павел Сергеевич, неужели вы, будучи всегда таким преданным Господу, боитесь смерти? Сообщитесь в Св. Тайнах с Господом и предайтесь ему на жизнь и на смерть. Вам будет легче.
Он выслушал меня очень серьезно и, углубившись несколько в себя, отвечал тихо, но так же серьезно:
— Нет, я не боюсь смерти.
— Не послать ли за священником, чтобы он пришел с Св. Дарами? обрадовавшись, продолжала я.
Он, снова углубившись внутрь себя и так же тихо и серьезно ответил мне:
— Нет, я сегодня ещё предан земле.
Было ясно, что он ждал сестры с братьями, о которых часто спрашивал, не приехали ли они.
— А завтра день решительный, жизнь или смерть предстоит мне.
После этих слов он успокоился и даже как будто забылся. Пришла Наталья Дмитриевна, я передала ей наш разговор. Очнувшись, больной сам стал просить Наталью Дмитриевну:
— После ранней обедни завтра пошлите, пожалуйста, карету за священником, чтобы он обеденными Св. Дарами приехал приобщить меня.
К концу ночи ему стало очень дурно, страдал жестоко; но, сколько мы ни уговаривали его, не дожидаясь утра, послать за священником с запасными Дарами, он не соглашался, хотя были такие тяжелые минуты, что ему самому казалось, что не доживет до утра. Однако выдержал эту борьбу страшную, говоря, что если б согласился, то это было уже с его стороны признаком маловерия. Что он хотел сказать этими словами, осталось тайной. Не было ли ему такое видение или предчувствие, что раньше утра он не умрет?
Тотчас по окончании ранней обедни приехал священник с Св. Дарами и прямо с чашей в руках вошел к нему. Больной с радостью встретил Св. Дары, исповедовался и приобщился Св. Тайн в полной памяти, после чаю успокоился, душевное томление прекратилось, благодарил нас, а к 12 часам дня физические его страдания стихли, дыхание делалось короче и менее мучительно, в глазах начало выражаться остолбенение, хотя видно было, что взгляд не терял ещё ни своей ясности, ни сознательности. Говорить перестал. Все мы окружили умирающего, я поддерживала рукой голову его, лежавшую на подушке. Казалось, что вот ещё один вдох, жизнь улетит, но взор, хотя остановившийся уже, не терял ещё своей выразительности. Вдруг умирающий, точно собрав последние силы, потянулся, сжав крепко глаза и губы, и на лице изобразилась такая болезненная мука, будто ему делали страшную операцию. Это продолжалось не более минуты.
Когда раскрыл глаза, то взгляд поблек и не выражал уже иичего: видна была только безжизненность во взоре, свет, как говорится, выкатился из них. Потянувшись еще раз с тою же болезненной мукой на лице, сжав опять глаза и губы, отошел в вечпость. Лицо умершего тотчас приняло спокойное, приятное выражение, как будто удостоверяя этим, что, покорившись и предавшись в св. волю Спасителя, он уснул спокойно. Продолжая поддерживать одной рукой его голову, я другой закрыла ему глаза, перекрестив, поцеловала в голову так еще недавно бывшего между нами доброго друга. Скончался Павел Сергеевич на масленице 13-го февраля, в 3 часа дня 1866 года.
В то время, когда умирающий боролся со смертью, масленичный разгул на улицах еще более давал чувствовать пустоту земной суеты. Чувствовалось, что совершалась какая-то невидимая тайна между душой и Богом. Тело покойного ещё долго оставалось теплым. Товарищи-декабристы, тут присутствовавшие, сами обмывали его. К 8-ми часам вечера была первая панихида, во время которой приехала сестра его с братьями. Горесть их была безгранична, особенно сестры его, Марии Сергеевны. Она в нем потеряла брата и друга и покровителя. Павел Сергеевич, живя в деревне по возвращении из Сибири вместе с сестрой, был для нее настоящим помощником. Его здравый, рассудительный совет всегда и во всем был полезен. Крестьяне тоже обращались к нему в разных своих затруднительных случаях, и он как в Сибири, так и на родине с одинаковой любовью относился к нуждам каждого, почему его высокохристианские успокоительные советы благотворно действовали на всех, за что полюбили его все знавшие его. Похоронили Павла Сергеевича на Волковском кладбище, близ церкви. Все собрались в доме Натальи Дмитриевны, как родные и товарищи его по Сибири, так и все знакомые отдать ему последний долг.Отпевали в ее приходе, в церкви св. Ермолая на Садовой. До кладбища мужчины и дамы провожали тело пешком.
Сестра покойного, Мария Сергеевна, оставалась до 40 дней у Натальи Дмитриевны, где и остановилась. Часто мы с ней ездили на свежую могилу отшедшаго друга. На памятнике была вделана его фотографичсская карточка, которую спустя уже несколько лет нашли почему-то неудобным имет на памятник, и велено было ее снять.
Однажды у Натальи Дмитриевны случилось мне познакомиться с замечательной личностью, с одним декабристом, Гаврилом Степановичем Батеньковым. Он, прежде чем быть сосланным в Сибирь, просидел 20 лет в одиночном заключении в крепостях Свартгольм в Финляндии и Петропавловской в Петербурге. Как оказалось потом, его просто забыли там, но не поминю по какому уже случаю вспомнили о нем и перевели его на поселение в Томск, куда он сам просился. По возвращении же из Сибири он поселился в Калуге, откуда нередко приезжал в Москву навещать старых товарищей. Его интересные рассказы о своих нравственных страданиях в 20-летней заключении были очень занимательны. Сколько перестрадал этот человек, можно судить из его стихотворения «Одичалый». Легко понять, какую выносил он муку…. Это была могучая цельная личность, перенесшая столько душевных потрясений, что одно время, как сам рассказывал, думал, что сходит с ума. Несмотря на все перенесенное, у него не осталось никакой горечи на людей. Он был детски весел со всеми, хотя по наружности казался суровым. Он довольно часто бывал у нас в Москве и оставил по себе самую добрую память вследствие своего добродушия и прямоты характера. Скончался он в Калуге в 1863 году на руках преданных и любивших его друзей. Похоронен же в селе Петрищеве Тульской губернии, в имении своих хороших и добрых друзей Елагиных.
Декабрист Петр Николаевич Свистунов в начале своего возвращения из Сибири избрал было местом своего жительства Калугу. Там он вступил во владение переданной ему братом его частью родового имения в Калужской губернии, Лихвинского уезда в члены комитета по освобождению крестьян от крепостного права. Тут посчастливилось ему приложить свою трудовую лепту к делу, составлявшему предмет его сердечных желаний с самой молодости. Затем он был назначен от правительства членом присуствия по крестьянским делам, которым и состоял в течение двух лет под председательством переведенного из Тобольска в Калугу губернатора Виктора Антоновича Арцимовича. В Калуге Свистунов оставил по себе хорошую память и был всеми там уважаем. Вышедши в отставку, он переехал на житье в Москву, сколько для воспитания детей, столько же и для того, чтобы быть ближе к Наталье Дмитриевне, которую, как он, так и вся его семья глубоко уважали и любили. Наталья Дмитриевна была крестной матерью всех его детей. В Москве он купил себе дом в Гагаринском переулке и вел жизнь семейную, тихую, занимался много, по обыкновению, чтением и не оставлял также своей любимой виолончели. Он любил музыку до страсти, и хотя сам новых знакомых не заводил, но все, кто его знал, как старые его товарищи, так и их родные, постоянно его навещали. Острота его ума, любезное обращение очень к нему привязывали всех.
Чаще других встречала я у него почтенную личность вдовы генерала Муравьева-Карского. Как теперь помню, худенькая, с седыми буклями, прямо держащаяся старушка, с выражением кротости и доброты, своей добротой и ласковой приветливостью привлекала всех к себе. Она очень любила и уважала старика Петра Николаевича Свистунова.
Декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол в то же почти время переехал из Твери в Москву с семейством, женой и двумя воспитанницами, привезенными им из Сибири. Своих детей у них не было. Он женился еще в Сибири, будучи на поселении. Жена его, Мария Константиновна, была дочь священника из дворян, которая, оставшись сиротой, воспитывалась у тетки своей, г-жи Брант, жены чиновника Бухтарминской таможни.
Мария Константиновна была кроткая, любящая сердцем, всеми товарищами ее мужа уважаемая и любимая. Она с большой любовью занималась своими воспитанницами; особенно одна из них была под ее влиянием, а другая находилась совершенно под влиянием Матвея Ивановича, который занимался исключительно ее умственным образованием. Способности ее ума быстро воспринимали умственное развитие, но, к сожалению, в ущерб сердцу. Страшная гордость овладела ею и начала проявляться перед доброй, скромной, хотя тоже далеко не лишенной здравого смысла и ума Марией Константиновной своим мнимым превосходством над ней, чем впоследствии много заставила страдать свою добрую воспитательницу, так что под конец мера терпения переполнилась уже настолько,что по желанию самого Матвея Ивановича, она должна, была удалитъся из их дома. Возвращению же ее опять к ним много содействовал старик Свистунов; зная хорошо, как Матвей Иванович былъ привязан к ней, принял на себя. труд умиротворить обе стороны; но потом и ему, миротворцу, вместо благодарности пришлось перенести тяжелое испытание клеветы, возведенной на него перед Матвеем Ивановичем. Чувствительнее всего было старику Свистунову перенести охлаждение многолетней дружбы к себе товарища своего после стольких лет, проведенных вместе в изгнании в постоянной дружбе и доверии друг к другу. Но, будучи истинным христианином, Свиетунов с Божьей помощыо сумел выработать в себе смиренную, полную любви покориость к воле Божьей. Вот как он выражался в одном сохранившемся у меня письме ко мне: «Поверите ли, что при нанесенном тяжком ударе моей гордыне бывают минуты радости, давно мною не испнтанные. Бог даст мне чуветвовать, что допущенное им торжество злобы людской на меня свидетельствует о милосердии Его ко мне, недостойному, и что без этого испытания я погибал, и тогда не только не ропщу и не досадую, но со слезами благодарю Бога».
Матвей Иванович Муравьев-Апостол скончался в Москве, также и жена, Мария Константиновна, где они и погребены.
Кончина Н. Д. Фонвизиной-Пущиной.
Здоровье Натальи Дмитриевны начало тоже понемногу подламываться, не могла она уже с той же энергией заниматься делами по своим родовым имениям, как прежде. Задумала было продать их, чтобы иметь возможность распорядиться капиталом при жизни еще своей по своему желанию, но не сошлась в цене с покупщиками. Ей хотелось продать костромские имения за 400 тысяч рублей, а ей давали 376 тысяч, и из-за 25 тысяч разошлась, о чем она после очень сожалела. Новых же покупателей не являлось, а здоровье ее стало очень упадать.
Проводя жизнь более сидячую,занимаясь постоянно письменной работой или чтением, под конец отразилось у нее на голову, сначала легким ударом, от которого ей скоро помогли, и запретили доктора много заниматься делами,но, несмотря на запрещение, она продолжала заниматься; особенно большого труда стоило ей привести в законную форму духовное завещание, по которому ей хотелось после своей смерти оставить родовое фонвизинское имение небогатой двоюродной сестре, Наталье Сергеевне Ржевской, урожденной тоже Фонвизиной, помимо прямого наследника, ее родного брата Ивана Сергеевича Фонвизина, имевшего значительное состояние. Год прошел благополучно, но к концу его удар повторился, оставивши уже более разрушительное действие: памятъ ослабела, голова с трудом работала, но окончательного сознания не теряла, хотя очень чувствовала свое разрушающеся состояние. В ее письме ко мне в Ниццу, где я в то время находилась, она так описывает мне его: «Ты имеешь все право сетовать на меня, милая Машенька, что я до сих пор не отвечала тебе. Мое здоровье так расстроено, и так безотрадно проходит жизнь моя, что почти как не живу в смысле жизни, голова отказывается, работать, слова с своими значениями исчезают, и передать их в понятном смысле почти не в состоянии и чрезвычайно меня утомляет, а потому прошу тебя, не взыщи с меня, убогой и больше, нежели когда-нибудь, неключимой рабы, эта неключимость сокрушает меня и унижает. Никакой болезни не могу определить и лечиться от чего — не знаю и что со мной — не ведаю. Видно, так нужно, и Богу так угодно».
По возвращении из-за границы я нашла Наталью Дмитриевну в Москве очень изменившеюся. Второй бывший с ней удар хотя не совсем еще лишил ес памяти, но она не могла уже ни заниматься по прежнему, ни рассуждать долго, голова слабела, что ее очень озабочивало. Часто повторяла мне, что не понимает, что с ней делается. Доктора, хотя скрывали от нее настоящую причину, приписывая все нервам и успокаивая, что это пройдет, но к концу года возобновился третий удар, который совершенно уже отнял у нее память, и язык плохо произносил слова. Она впала в какое-то детское состояние, доходящее до бессмысленного, почти идиотского, смеялась, сама не зная чему иногда, видимо, страдая и томясь душой, желала бы выразить свое тяжелое и подчас невносимое состояние, но язык отказывался служить, и она с отчаянием била себя в грудь, показывая мне этим всю тяжесть своего душевного мучения. Помочь же ей никакой не было возможности. Но для меня тяжелее было видеть ѳе, когда она впадала в бессмысленное состояние, особенно вспоминая прошлое, каким была она деятелем, богато одаренная умом и красноречием, энергичной твердой волей и глубоко верующей душой. Ее вполне можно быдо назвать духовным вождем душ к Богу. Живя духовно внутренней жизныю, она никогда себя не щадила. Люди, не понимающие этой жизни, берутся иногда судить по своим мелким соображениям далеко неправильно о таких личностях. Иногда вырвав из их жизни какой-нибудь эпизод сбивающий их мелкие понятия, они силяться очернить даже память таких людей, как была не понята ими и покойная Наталья Дмитриевна.
Разве они могут иметь верное понятие о духовных сношениях людей, развитых духовно? По своим нечистым воззрениям, для них и в других все кажется нечистым. Злостно и радостно они готовы попавшие им в руки каким-нибудь судьбами даже и исповедные листки таких людей выставлять на показ свету в осуждение и порицание их, забывая потом, насколько это недобросовестно, но вряд ли, чтобы такими путями они могли достигнуть своей черной цели.
9-го октября 1869 года наконец окончились тяжелые страдания Натальи Дмитриевны. Тихой, христианской кончиной, после приобщения Св. Тайн Христовых почила она. Сознание во взоре, видимо, сохраняла до последней минуты, но выразить это вследствие парализации языка не могла. Похоронена в Москве, в Покровском монастыре, где лежат и ее родители.
ПРИМЕЧАНИЯ
1В тексте — «Абрамов». Мария Дмитриевна ошибается в имени. В Туруханске жил Иван Борисович Аврамов (1801–1840), член Южного общества.
2Енисейской губернии с центром в Красноярске, «Красноярская губерния» отсутствует на карте России.
3Святой Даниил Ачинский (Данила Корнилович Делие, 1784–1843), канонизирован в 1899 г. Из казаков Полтавской губернии, участник наполеоновский войн, попал в Сибирь по военному суду за «намерение удалиться вовсе от службы для пустынножительства» после 17-ти лет службы. После истории, описанной Марией Дмитриевной жил в Ачинске, потом в дер. Зерцалы недалеко от Ачинска, пользовался всеобщим почитанием как святой прозорливец. Умер в Енисейске, похоронен в женском Христорождественском (сейчас Иверском) монастыре.
4Мария Дмитриевна опять ошибается с именем. Ле Дантю — это Ивашева, а Анненкова – Полина Гебль.
5Преподобный Макарий Алтайский (Михаил Яковлевич Глухарёв, 1792–1847), канонизирован в 2000 г. Миссионер, переводчик (упоминаемый Францевой перевод Библии не был забыт — он публиковался в Православном обозрении в 1860-е годы и использовался при работе над Синодальным переводом.)