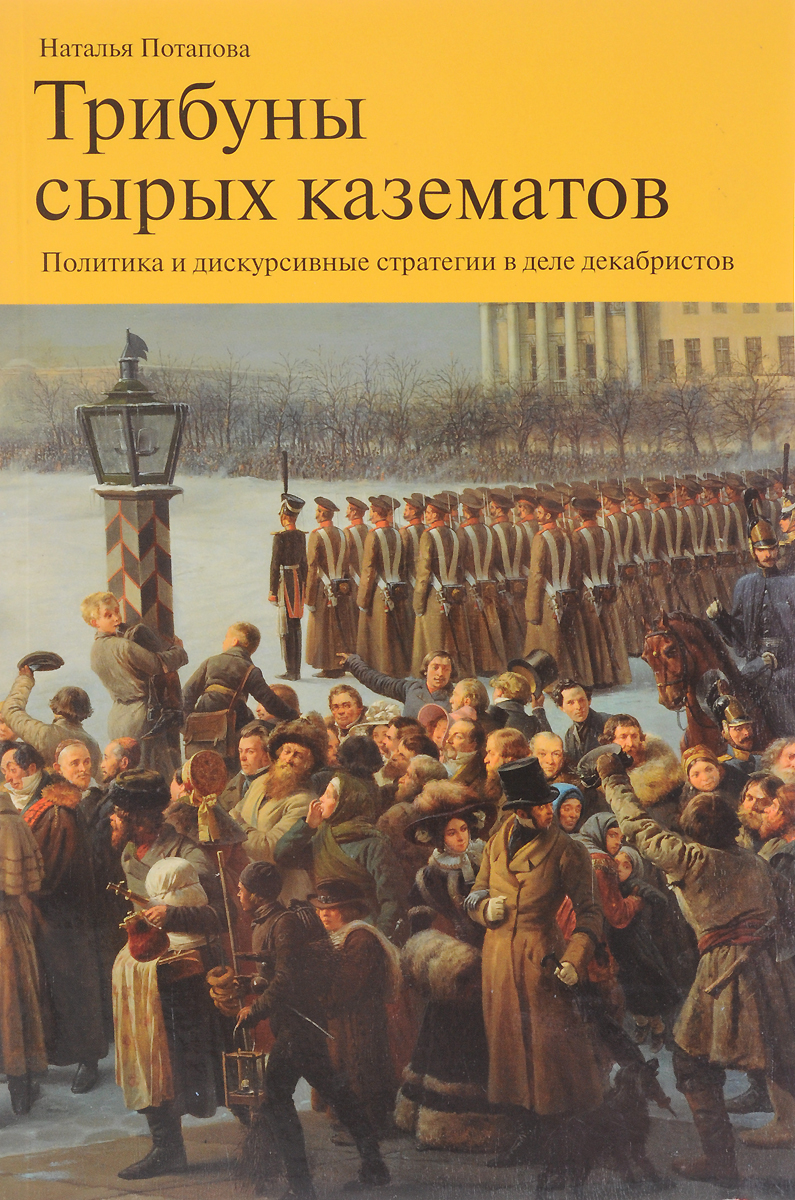В 2017 г. в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге вышла монография Н. Д. Потаповой «Трибуны сырых казематов: политика и дискурсивные стратегии в деле декабристов»1. Книга вызвала не только ряд негативных рецензий2, но и вполне комплиментарные отзывы3. И все же, по нашему мнению, сказано о ней далеко не все.
Приступая к обсуждению работы Н. Д. Потаповой, хочется обратить внимание читателя: книга исходит не из фактов, не из проведенного анализа материала и сделанных выводов, а из определенной концепции, выработанной автором ранее. Причем книга вовсе не посвящена ее доказательству — наоборот, такая концепция заявлена уже во введении. Одно из значимых ее положений — идеи важнее того, что произошло. На протяжении одной страницы данный тезис сформулирован дважды: «Символический смысл 14 декабря 1825 года намного важнее смысла политического. В этом событии проявилось столкновение двух культур, двух способов видения политического: классицистической римской гражданственности, основанной на чести и призвании, и теснившей ее политической культуры Нового времени, основанной на представлении о борьбе и противостоянии большинства и меньшинства, мажоритарной системе выборов и возможности силой или убеждением повлиять на их результат» (с. 12)4. А также: «Рождение новых идеалов важнее, чем то, был ли заговор, как протестующие вышли на площадь и т. п.» (с. 12).
Возможно, именно поэтому то, что произошло, автор толкует довольно произвольно, причем внятная и полная картина произошедшего или непроизошедшего, какой она выглядела по мысли автора, нигде на протяжении книги четко не сформулирована, время от времени всплывает лишь та или иная деталь.
Поскольку важным элементом подобной концепции является идея о том, что тайных обществ в привычном нам виде не существовало, что их придумало следствие, то необходимо в рамках этой идеи объяснить, откуда и почему взялись три доноса о тайном обществе, поданные властям в течение 1825 г. У Н. Д. Потаповой есть своя версия, закономерно — гораздо более сложная и многосоставная, чем представление о том, что доносы появились вследствие того, что тайное общество действительно существовало (хотя его облик и в доносах, и в процессе следствия мог быть отражен неадекватно). Версия Потаповой была изложена ею еще в первой главе кандидатской диссертаци5 и, по-видимому, до сих пор для нее актуальна: отсылки к ней присутствуют в книге. Однако здесь она нигде не изложена полностью, упоминания отдельных моментов появляются в тексте и примечаниях, однако конкретных ссылок на диссертацию при этих упоминаниях нет; и читатель, не знакомый с ней, концепцию не поймет и не узнает.
То же можно сказать и об одной из основных идей книги — как следователи навязывают подследственным концепт тайного общества (никогда не существовавшего в реальности). Впервые она была также изложена в диссертации. В книге отчасти ее систематическому изложению посвящена последняя, третья глава. Но уже в первой главе, например, встречается и некоторое время развивается тезис: Г. С. Батеньков в определенный момент согласился «поддержать версию обвинения» о военных поселениях (с. 76). Мы, кстати, так и не узнаем в точности, какова была эта версия и почему расследование о существовании тайного общества должно иметь мнение о военных поселениях. При наличии ссылки на конкретное письмо Батенькова остается непонятным, почему один из тезисов его довольно обширной записки является именно согласием с «версией обвинения»: военные поселения упоминаются там как пример плохой экономии в казенном хозяйстве6. Далее говорится о закупках хлеба в Сибири. Должны ли мы полагать, что это тоже согласие с какой-то версией, и почему?
Еще одно характерное упоминание. Оно относится к конкретному сюжету (до- вольно важному для автора, поэтому позже мы к нему еще вернемся) — манифесту, найденному у С. П. Трубецкого. Излагая его тезисы, автор замечает: «Все это вы глядит каким-то странным с точки зрения нашего времени» (с. 17). Впрочем, подтверждений тому не дается.
Цитата уже привлекала внимание О. В. Эдельман7. Но значение цитаты шире вопроса о том, странно или нет для полковника гвардии, занимающего должность в Главном или корпусном штабе, писать манифест восстания. Речь идет еще об одном указании на то, с какой именно точки зрения смотрит автор книги на события прошлого: именно «с точки зрения нашего времени» и, похоже, вовсе не берется корректировать этот взгляд реалиями времени более раннего, как то свойственно профессиональным исследователям. Именно «с точки зрения нашего времени» выглядят логично основополагающие для книги идеи. Во-первых, ориентация на мнение прессы Западной Европы и диалог с ней, ведущийся что в записанных позже воспоминаниях, что в следственных вопросах и показаниях. Во-вторых, связанная с такой ориентацией мысль о том, что главным поводом для беспокойства нового самодержца, из-за которого он и должен был оправдываться перед европейской прессой, послужила не попытка переворота и существовавшее в стране тайное общество, а «ответственность за жертвы на Сенатской», возникшая после того, как «пушки стреляли в народ» (с. 12).
Исследования автора начинались в диссертации с довольно интересной темы — как именно, какими словами и выражениями формирует Следственный комитет, несомненно, отличную от реальности, но соответствовавшую его цели картину событий. В частности, были рассмотрены названия «Северное общество» и «Южное общество», которые не были официальными — при этом, как видно из источников, упоминания о севере и юге неизбежно возникали при переговорах и иных контактах членов обществ, в то время как другие, далекие от подобных контактов, подобные название впервые услышали на следствии. Такое начало могло обещать обширное, тонкое и интересное исследование того, как именно складывалась известная по «Донесению Следственной комиссии» Д. Н. Блудова картина и чем она отличалась от реальности.
Но автор в итоге выбирает самое радикальное решение проблемы: если какой- то элемент картины не соответствует реальности, значит картина не соответствует реальности полностью, т. е. никаких тайных обществ не существовало в принципе. Этим обесценивается идея изучения их истории (зачем изучать то, чего не было?). Хотя даже если предположить, что мы видим некую вымышленную концепцию, созданную Следственным комитетом, изучить подробности ее возникновения все равно было бы любопытной научной задачей. Однако, видимо в силу все той же идеи о несуществовании тайного общества, автор сосредотачивает свое внимание на том, что говорили подследственные в первых показаниях о своем членстве (и в самом деле, довольно часто они его отрицали) и как от них добивались признания. Это обуславливает и отбор следственных дел: автор опирается во многом на показания людей, мало замешанных. П. В. Ильин, рассматривая следствие по делам арестованных, признанных невиновными или наказанных административно, считал, что для таких подследственных отрицание было наиболее удачной стратегией защиты8. Таким образом, Н. Д. Потапова обращается к широкому кругу следственных дел, включая и неопубликованные, но анализирует их под заранее избранным углом зрения (доверяя отрицаниям полностью) и по ограниченному числу вопросов.
В то же время при рассмотрении концептуальных вопросов использованы прежде всего следственные дела, фигуранты которых пишут часто и много — вне зависимости от того, насколько велика была их осведомленность о делах общества и насколько их показания соотносятся с показаниями других лиц. Так, в поле зрения автора попадают Д. И. Завалишин, Г. С. Батеньков, А. В. Поджио, А. М. Булатов.
Ранее историческая наука еще со времен М. А. Корфа некритично опиралась на построения «Донесения Следственной комиссии», изменяя лишь оценку изложенных там планов, разговоров и т. п. Достоверными традиционно считались показания, авторы которых признавались в более радикальных планах и намерениях. Они же привлекали наибольшее внимание исследователей. В определенном смысле идея о несуществовании тайного общества — объяснимое и, возможно, неизбежное движение маятника к противоположной точке.
Н. Д. Потапова, напротив, отрицает концепцию Следственного комитета пол- ностью, обращая внимание на людей мало замешанных, привлеченных к заговору незадолго до 14 декабря, иногда без принятия в общество, давно отошедших, чуть ли не случайных. Апофеозом подобного подхода является то, что единственным настоящим декабристом, согласно концепции автора, можно считать О. В. Горского — человека, который действительно случайно шел мимо и спонтанно попытался присоединиться к происходящему! Его показания автор неоднократно цитирует (благо, Горский довольно многословен).
Н. Д. Потапова предпочитает неизбежно хаотические свидетельства очевидцев, а не стройную реконструированную картину произошедшего; случайным образом сложившийся узор цветных стеклышек в калейдоскопе, а не целостную и постижимую, пусть и с долей допущения, реальность. По существу, перед нами — замена одной тенденциозной концепции другой, такой же тенденциозной.
В чем-то построения Н. Д. Потаповой можно соотнести с концепциями О. И. Киянской. Пишут они совершенно о разном, но общий вектор таков: «все было не так, как мы привыкли думать». Здесь тоже виден явный след «точки зрения нашего времени», точнее времени, уже ушедшего в недавнее прошлое, последних советских и первых постсоветских лет: пересмотр и переоценка того, что ранее считалось единственно верным и незыблемым.
Еще один штрих, объединяющий двух историков и «точку зрения нашего времени», уже, может быть, более близкую к настоящему моменту: они, вопреки существующей традиции, пишут о декабристах как об индивидуалистах. Только у О. И. Киянской это интриганы и политики, желающие власти и влияния для себя, а у Н. Д. Потаповой – скорее легкомысленные и незрелые «политические младенцы»9, для которых в протесте важна и даже самоценна возможность высказаться на политические темы, а не изменить таким образом что-то в стране. Именно поэтому они, согласно концепции автора, находят в итоге такую «трибуну» (попавшую в заглавие книги) в следственном процессе и поэтому не готовы затем расстаться со сфабрикованной данным процессом идеей о тайном обществе.
При этом, несмотря на последующее обращение к материалам многих следственных дел, никто из подследственных так и не предстает перед читателем отдельной личностью со своей историей — они составляют какой-то обобщенный образ участника протеста на Манежной, Болотной или Сенатской площади с заведомо современной психологией.
История о молодых людях, которые только хотели поговорить о политике, а оказались в тюрьме и теперь могут высказаться о ситуации уже оттуда — это вполне современная и актуальная история, которая может найти понимание и сочувствие у читателей, привлечь их к образам героев… Но нужен ли интерес, основанный на том, что никак не соотносится со всем, что известно о декабристах? И не лучше ли о подобных сюжетах поговорить на материале событий, которые в самом деле имели место?
Из современности родом и упомянутая в книге неоднократно идея об ответственности за кровь, пролившуюся на Сенатской, как главной проблеме власти и лично императора после восстания. «С точки зрения нашего времени» мы, узнав из новостей о каких-либо происшествиях, едва ли не в первую очередь хотим знать: есть ли пострадавшие и погибшие? Сколько их? От этого сильно зависит наше отношение к событиям, причем число жертв может быть невелико — важен сам факт гибели или ущерба. Понятно, что, формируя свое отношение к историческим событиям, мы никогда не сможем до конца выйти из того времени, в котором живем. Оно будет влиять и на выбор тем, и на наши оценки действующих лиц. Однако имеет смысл напоминать себе, что современное понимание ценности человеческой жизни — приобретение недавнее, и участники большинства исторических событий не придерживались его, причем не в результате сознательного выбора, а потому, что такая точка зрения их эпохе была не присуща (или была уделом очень немногих). Поэтому, если в источниках мы не видим намека на подобное отношение к проблеме, едва ли стоит его вносить.
Вопрос об ответственности за жертвы на Сенатской выводит нас еще к одному важному концепту книги: все ее персонажи ориентированы «на Запад», мало того — на западную прессу. Они читают ее, цитируют и отчитываются перед ней даже тогда, когда текст для подобных читателей вроде бы не предназначается.
Эта тема появилась уже в диссертации Н. Д. Потаповой, но монография добавляет тезис об актуальности европейских газет. В диссертации уже выдвигалась мысль о заимствовании идеи тайных обществ из консервативной европейской публицистики, она воспроизводится и в книге. Хорошо, в России тайных обществ не было, их выдумали представители власти по европейским книжкам, а в Европе-то они были, или их тоже придумали публицисты (используя, например, античные аналогии, — еще одна тема, не раз возникающая в книге)? Ответ на этот вопрос читатель так и не получит.
Европейская пресса играет в книге двоякую роль, причем два ее аспекта, как нам кажется, не всегда четко разделяются автором.
Прежде всего, она выступает, как уже сказано, ориентиром, известным, по мнению автора, и декабристам, и следователям, обеспечивая участникам восстания идеальную читательскую аудиторию. При этом Н. Д. Потапова упоминает: чтение зарубежных газет — удовольствие недешевое (с. 18), добавим сюда проблему территориальной доступности. Мы можем быть уверены в знакомстве с ними людей богатых, служащих в столице, бывавших за границей — в военных походах и вне них; но что сказать об Обществе Соединенных славян, состоявшем в основном из небогатых провинциальных офицеров, о других служащих в армейских полках, о молодых и не слишком обеспеченных моряках Гвардейского экипажа? Следует ли и их представлять читателями зарубежных газет?
Автор книги видит этих читателей повсюду: «Следователи и подследственные… обращались к европейскому читателю» (с. 23); А. М. Булатов «часто цитирует» британские газеты (с. 84; см. также с. 116–117, 145, 322); «для формирования подобных рассказов о планах политического переворота достаточно того, что можно просто прочитать в европейских газетах» (с. 30), а следовательно, ничего больше и не было! «Записки» С. П. Трубецкого не раз характеризуются как «нарезка из газет периода междуцарствия» и к тем же газетам обращены (с. 18–20, 170, 214, 221, 247). К ним же обращается, по мнению Н. Д. Потаповой, в записках и Николай I (с. 26, 151, 156, 160–161, 224 и др.). Впрочем, он еще раньше начинает «диалог с европейской прессой, ради которой и был организован шумный процесс» (с. 33). Данные же о бытовании тех и других записок ничего не говорят о том, чтобы их стремились довести до сведения прежде всего европейского читателя (который, заметим, не читает по-русски). Мало того, если еще в принципе возможно представить императора, отдающего указание отыскать в библиотеке Зимнего дворца газеты давностью в несколько лет, то непонятно, как должен был справляться с данной проблемой находившийся в Сибири Трубецкой. В дальнейшем появляется еще более фантастическая интерпретация этой идеи: «Трубецкой давал точную цитату, но всегда заменял имя “Николай” на “Милорадович”» (с. 170).
Впрочем, европейская пресса, точнее европейская провинциальная пресса, исполняет в книге еще одну функцию. Она моделирует российское общественное мнение того времени, поскольку, по мнению автора, «мы… ничего не знаем о том, как российские обыватели воспринимали события» (с. 27). Автор честно пишет, что «в России не читали и не могли читать эту региональную прессу» (с. 28), отмечает отсутствие в России подобной прессы и меньшее количество грамотных людей… Словом, признание Н. Д. Потаповой о том, что «это наиболее гипотетическая модель в данной книге» (с. 28) — вполне справедливо.
Необходимо отметить, что исследования о реакции российского общества на события вокруг восстания декабристов существуют, как и подходящие для них источники — дневники, письма, специальные записи слухов, полицейские донесения10. Собрать их будет сложнее, чем прочитать подшивку газет, но они определенно будут иметь отношение к заявленному вопросу! При этом выбор Н. Д. Потаповой почему-то падает именно на английскую прессу. Автор уделяет гораздо меньше внимания французской (и почти не уделяет немецкой), честно признаваясь читателю, что командировка во Францию была более краткой. Понятно, что возможности любого исследователя ограничены, но, думается, все же следует соотносить их с темой работы, иначе вспоминается анекдот о джентльмене, который потерял ключи в кустах, а ищет под фонарем, потому что там светлее.
Хотелось бы сказать несколько слов о подаче материала. Книга, заявленная как монография, не имеет ни четко выделенного обзора источников, ни историографического обзора. Конечно, в настоящее время бывает всякое (без тех же разделов вышла книга С. В. Мироненко «Александр I и декабристы», причем факт их отсутствия был специально отмечен11), но все же хотелось бы при встрече с концепцией, столь радикально отличающейся от прочих исследований, знать, на что именно опирается автор. Некоторые обрывки историографии, если так можно сказать, встречаются во введении и первой главе. Автор ссылается на некую статью М. Рожанского о декабристах12 (по-видимому, его взгляды в определенной степени совпадают с авторскими), но мы так и не узнаем, почему именно этот очерк следует рассматривать как основополагающий текст. Кое-кто еще из декабристоведов упомянут, хотя и не слишком подробно: В. С. Парсамов, М. Н. Покровский (автор в первой главе пишет в чем-то напоминающие его пассажи об экономических причинах «революционной ситуации»).
Хотелось бы отметить несомненно положительный момент (чисто технический, но довольно важный) — систему ссылок на источники, которая очень информативна и отличается от обычно принятой системы ссылок на следственные дела декабристов. Часто в литературе вслед за какой-нибудь цитатой или даже выводом из нее можно встретить «глухую» ссылку — том и страница, без автора, даты и рода документа. Даже зная, в каких томах серии «Восстание декабристов» чьи дела находятся, не всегда возможно угадать, о чем идет речь: во многих следственных делах есть документы от других авторов (ответы на вопросы, материалы очных ставок и т. д.). Н. Д. Потапова в каждой ссылке указывает конкретный документ — с автором, датой и его видом, и только потом идет ссылка на том и страницу. Учитывая, что выводы из следственных показаний автор зачастую делает неожиданные, это помогает ориентироваться в том, что служит для них материалом. Впрочем, есть тут и ложка дегтя. Рассматривая каждое письмо, показание и т. д. как отдельный документ, а не часть следственного дела, в случае, если какое-то показание цитируется не раз на протяжении нескольких страниц, автор сокращает его название, как сокращаются обычно заглавия в подстрочных ссылках, например: «А. М. Булатов. Письмо к великому князю…». Здесь уже пропадает определенность, и приходится отыскивать первое упоминание документа.
Выше уже приводился пример с цитатой Г. С. Батенькова о военных поселениях. О. В. Эдельман приводит еще один пример. В деле А. М. Булатова13 есть эпизод, где упоминается появление 13 декабря 1825 г. в квартире К. Ф. Рылеева Д. А. Щепина-Ростовского «с запиской в руках», которую он читает вслух. Н. Д. Потапова почему-то называет эту записку «выпиской из газеты» (с. 116)14, хотя в показании об этом не говорится.
Иногда речь идет даже не о спорном тезисе, а просто о невнятной формулировке или выхваченной из контекста фразе. Вот один из примеров. «В европейской умеренно либеральной прессе не раз звучала мысль, что свобода печати (и в идеале парламент) способна снять это напряжение… и одновременно сделать ненужной преломляющую оптику негласного наблюдения. Другие полагали недопустимым позволить прессе, ораторам и трибунам в нижней палате (“людям, которые и вести-то себя не умеют”) обсуждать правительство и его меры, вторгаться в дела и критиковать публичных людей» (с. 84–85). После фразы «людям, которые и вести-то себя не умеют» следует ссылка на письмо М. И. Муравьева-Апостола брату Сергею от 3 ноября 1824 г., находящееся в его следственном деле15. Из цитаты можно заключить, что Матвей Муравьев-Апостол говорит о членах парламента в настоящем или будущем. Однако, на деле, фраза из его письма брату относится к стратегии действий членов тайного общества в сравнении с действиями императора и великих князей: «Эти господа дарят земельные владения, деньги, чины, а мы что делаем? Мы сулим отвлеченности, раздаем этикетки государственных мужей людям, которые и вести-то себя не умеют»16. Как видим, речи о парламенте здесь нет.
Еще одна характерная черта авторского стиля — пристрастие к спискам и перечислениям. Причем они нередко появляются вместо ответа на заданный автором же вопрос, иногда это списки вопросов, на которые не следует никакого ответа, иногда — просто перечень, мало связанный с обсуждаемой темой. Так, сообщив о формировании в России в начале XIX века системы политического сыска, которым руководил И. О. Витт, а затем сам подвергся надзору, Н. Д. Потапова продолжает: «Слухи о том, что в российской армии есть чиновники, “имеющие поручение от правительства быть шпионами”… давно циркулировали в свете. Поляки и греки, опальные вертопрахи и болтуны, филэллины и франмасоны, филоматы и филареты, так по-разному и так одинаково печалившиеся о свободе личной и свободе отечества, Греции, Польши или России, составляли контингент, за которым надлежало установить тайное наблюдение…» (с. 82). После этого речь снова идет о надзоре за конкретными лицами (семейство Раевских, Ф. Ф. Вадковский), никто из которых не имеет к данному перечислению, как и И. О. Витт, никакого отношения.
Длинные перечни создают впечатление, что они для автора самоценны: «Студенты, каретники, камердинеры и лакеи, маклеры, сотрудники посольств и чиновники, съезжавшиеся во дворец и проходившие мимо или специально сбегавшиеся поглазеть, жены дьячков, “разного состояния люди”, “лица непрезентабельные” теснили войска, войска перемещались по площади, строились и снова двигались» (с. 188).
Рассмотрим теперь содержание трех глав монографии. Первая глава «Политический кризис 1825 года: события междуцарствия и формирование солидарностей» анализирует, как складывалась обстановка в обществе к концу 1825 г., и даже точнее — как складывалась «революционная ситуация», приведшая к восстанию (автор употребляет данный термин (с. 33), считая его общепризнанным). «Формирование солидарностей» именно этим определением следует, по мысли автора, заменить понятие «тайные общества», поскольку таковых, согласно ее концепции, не было: определенные общие мнения и обсуждаемые темы возникали не в тайном, а просто в обществе.
Кстати, к вопросу о «формировании солидарностей»… Многие подобные термины, взятые из работ исследователей-социологов, неоднократно вводятся в работе «явочным порядком», без четкого упоминания, что за концепция их породила и каково их точное значение. Читатель, не знакомый с их происхождением, не сможет составить себе и четкого представления о терминах. Тем более автор пользуется ими, не поясняя необходимости введения именно этих, а не иных терминов и что дает использование той или иной концепции для решения поставленных им задач.
«Солидарности», т. е. общественное мнение, рассматриваются по нескольким пунктам: «вопрос о войне», «финансовый кризис и проблемы содержания армии», «надзор и свобода печати», в последнем разделе речь идет о событиях междуцарствия и «спектре политических ожиданий при нем».
Первый раздел построен по схеме, которая потом не раз воспроизводится: подробно рассматривается, что пишет по этому вопросу английская пресса; затем подыскиваются схожие высказывания российских дворян того же времени; из чего делается вывод, что они эти газеты читали и цитируют. Обратим внимание на своеобразие ситуации. С одной стороны, не вполне корректно отождествлять обсуждение слухов о возможной скорой войне России и Турции там, где Россия — это какая-то другая, далекая и, по всей видимости, «варварская страна» (возможно, противник или союзник), и слухи о том же предмете в самой России. Точечное использование российских данных в книге не позволяет выполнить полноценное сравнение, но вот один пример. Автор приводит тезис из некоторых английских газет (с. 44, примеч.): не исключено, что упоминания о чуме около турецкой границы — это предлог для введения военного положения. Так можно полагать, находясь на значительном расстоянии от места событий, но в российских документах мы найдем достаточно свидетельств, чтобы убедиться, что в районе границы действительно находился естественный очаг чумы, и его наличие вынуждало принимать меры (устанавливать карантины и т. п.). Кроме того, здесь первый раз проявляется значимый недостаток методики, когда иностранные газеты моделируют якобы неизвестное нам общественное мнение: сначала автор восстанавливает его по иностранным газетам, потом подбирает подходящие к ним российские аналогии, а потом делает вывод: все и в самом деле совпадает!
Заявленная тема второго подраздела, о проблемах армейской экономики, звучит интересно, и ее изучение могло бы вывести нас на обсуждение того, что толкало заговорщиков, которые были армейскими офицерами, к идее менять общественное устройство России. Вот только автор ограничивается в основном одним аспектом — военными поселениями (и, как уже говорилось, рассуждением о навязанной версии следствия о них).
В разделе «Надзор и свобода печати» начинают появляться отдельные элементы концепта декабристов, как они видятся Н. Д. Потаповой. Она рассуждает о «столичной молодежи», оказавшейся в армии, которая испытывала «не находившее разрядки желание поговорить» на ряд общественно-политических тем (с. 83–84) и поэтому подхватила европейские идеи: «В европейской… прессе не раз звучала мысль, что свобода печати… способна снять это напряжение» (с. 84). Но подобная концепция применима к единицам из всей массы декабристов. Можно назвать братьев Муравьевых-Апостолов (хотя Матвей уже служит на Юге ко времени «Семеновской истории»; Сергей, кстати, неверно назван автором «разжалованным» из семеновских офицеров (с. 82)), Федора Вадковского и еще нескольких человек. Теоретически в этот круг может входить М. П. Бестужев-Рюмин, но что делать со всеми остальными офицерами из Южного общества? Например, с теми, кто служил в Тульчине при штабе 2-й армии и по квартирмейстерской части, и ни их положение по службе, ни сама атмосфера тамошнего армейского общества не была похожа на ссылку с невозможностью высказаться? Можно ли так сказать о членах Общества Соединенных славян, не принадлежащих к столичной молодежи и всю службу проведших в провинциальных армейских полках?
Вторая глава «Протест и риторика политических репрезентаций» посвящена событиям 14 декабря, но она только подтверждает высказанную автором с самого начала идею: события — не самое важное. Из наименьшей по объему главы книги читатель так и не получает полной картины событий, и сделано так не по недосмотру, а вполне осознанно. Автор высказывает желание «взорвать эту идущую от выбитых на следствии показаний рациональность» (с. 164), сосредоточиться на действиях «толпы» и показать царивший в головах свидетелей событий беспорядок, поскольку они не понимали, что происходит: «мы исследуем хаос и роль ключевого в этой истории момента — непонимания того, что происходит» (с. 164). И хаос добросовестно перенесен в авторский текст.
Толпу Н. Д. Потапова, исходя из своей концепции, назначает главным действующим лицом — ведь если никакого заговора нет, то и непонятно: «Можем ли мы вообще назвать то, что случилось, протестом?… Были ли у рот, которые вышли на площадь, общие цели?» (с. 165). Вопрос задан, но внятного ответа нет. И поскольку никакой другой версии не предложено, мы, видимо, должны полагать, что все три вышедшие на Сенатскую площадь полка встретились там случайно.
Автор задается вопросом (как часто в данной книге — риторическим, без ответа): «Почему солдаты пошли за своими ротными командирами?» (с. 182) — и выдвигает различные версии (опять в виде вопросов) — например, «поглазеть на но- вого императора» (с. 183). Видимо, по мысли автора, для того чтобы «поглазеть» на императора, солдаты ходят колонной и встают для этого в боевое построение (каре). Но солдаты здесь далеко не главное действующее лицо, автора больше привлекают очевидцы и толпа, равно причастные хаосу; некоторое внимание достается также императору и декабристам, которых следует вписать в данную схему. Неудивительно, что в анализируемой главе находится немало места тем, кто в организованном выступлении не участвовал: О. В. Горскому, А. М. Булатову, есть ссылка на Н. Н. Оржицкого; М. Н. Глебов назван «случайно оказавшимся» на площади (с. 185), что не соответствует известным документальным данным.
Темы же хаоса и толпы тесно связаны. Если отсутствует какой-то план и организация, толпа оказывается едва ли не главным действующим лицом или, во всяком случае, те из нее, «кто стал присоединяться к каре» (с. 185). Автор намекает, что свидетельства об участии толпы замалчивались и вытеснялись как из официальных документов, так и из показаний арестованных офицеров, «боровшихся за право репрезентации» своих взглядов именно такой ценой (с. 185), в итоге «мы слышим лишь голоса тех, кого решили допросить, как на дуэли» (с. 186) (следует заметить, что на дуэли все же обыкновенно не допрашивают). Таким образом, гипотетический главный участник событий так и остается толком не описанным, не до конца определенным. Автор ограничивается перечислениями (как процитированное выше, с упоминанием «жен дьячков», сами дьячки на площадь, видимо, не пришли) или риторическими вопросами: «Что мы знаем о третьем сословии Российской империи?» (с. 206) — упоминая, что именно его представители обеспечивали безбедную жизнь дворян, о жизни которых мы более осведомлены. Следует сказать, что третьего сословия в классическом европейском понимании в России того времени не было, поэтому о нем затруднительно что-то знать. Жизнь дворян, в том числе офицеров, и конкретно членов тайного общества, обеспечивали принадлежавшие им крепостные, а на площади, скорее всего, наиболее представлена была категория населения, известная как «городские обыватели». Про данные социальные группы у нас есть и источники, позволяющие судить об их жизни, и соответствующие исследования.
Именно по толпе прежде всего (что важно), в рамках концепции автора, стреляют пушки, а осознание своей ответственности за выстрелы, как мы помним, Н. Д. Потапова считает главной причиной последующих событий. Впрочем, этому осознанию предшествует шок от произошедшего как у участников с обеих сторон, так и у европейской прессы: «Базовыми оказались отрицание и неспособность принять то, что произошло на Сенатской площади, расстрел» (с. 176). За реакцию европейской прессы в данном случае отвечает ссылка на три газеты, без их текста, так что автору приходится верить (или не верить) на слово. В другом случае похожая мысль тоже подается как сформулированная «по материалам европейской прессы», но ссылка идет на свидетельства генерала К. И. Бистрома и принца Евгения Вюртембергского, которых при всем желании не назовешь представителями прессы (с. 193)!
Сам приказ стрелять автор объясняет чем-то иррациональным: «Надвигающейся темнотой и ночными кошмарами мотивировал Николай… приказ применить артиллерию» (с. 191). А вот результатом ее применения стало, по мнению Н. Д. Потаповой, как раз желание найти произошедшему рациональное объяснение: «Там, где очевидцы видели действие “на авось”, правительство усматривало план в этом хаосе» (с. 202); «требовалась рационализация настолько сильная, чтобы примирить с ценой этого дня, пушками» (с. 203). Шок, потрясение именно из-за применения артиллерии упоминаются в книге не раз, но чрезвычайно слабо подтверждаются чем-то, кроме деклараций автора.
При неоднократном указании на хаос в голове свидетелей ни разу не объяс- няется, почему из хаоса свидетельств непременно вытекает хаос событий? Автор, впрочем, возводит рационализацию в тенденции того времени: «Искать рациональность в хаосе сражений — общее место классической эпохи» (с. 202). Безусловно, любое достаточно массовое событие будет шире и сложнее его схемы, но нельзя отрицать, что для подобных событий — сражений и других вооруженных выступлений, включая восстания, — нередко заранее составлялись планы. Пусть далее события не всегда шли строго по ним, но это не отрицает существования плана. Кроме того, даже при стихийном развитии событий тот или иной план может складываться (или изменяться) в процессе. Здесь самое место вопросу — что же мы узнаем в данной книге о планах… хорошо, пусть не заговорщиков, но хотя бы офицеров, оказавшихся по той или иной причине (так четко и не названной автором) на Сенатской площади? Однако узнаем мы до обидного мало.
Следует сказать еще об одной теме, обильно представленной в исследовании, — использовании аналогий с античностью. Именно с античными реминисценциями связано единственное в этой главе (и во всей книге) конкретное рассуждение о действиях восставших: «Те, кто собрался у Сената, безусловно, имели возможность захватить его», но не сделали это. Почему? Потому что, полагает автор, «внутри здания, скрытые от глаз народа, они переставали быть “народом на форуме”» (с. 190–191).
Это упоминание становится частью еще одной концепции, развернутой в разделе, посвященном междуцарствию: «в классическую эпоху стабилизировать смысл событий помогали античные сюжеты» (с. 108), поэтому любые события XVIII– XIX вв. предстают как символы, аллегории и аналоги: Екатерина II создает в Петербурге что-то вроде форума (с. 164), с восприятием Сенатской площади (Сенат — это тоже неслучайно!) как форума и связаны последующие события; в процессе захвата власти самой Екатериной появляется «императрица как аллегория на коне» (с. 108), «междуцарствие» — прежде всего, античный термин, отсылающий к Титу Ливию, причем «Константину была отведена роль интеррекса» (с. 148–149)… Словом, все богатство отсылок описывается термином, введенным самим автором, — «античная виртуальная реальность» (с. 178).
При этом представляется, что как бы ни были распространены античные образы и аллюзии в ту эпоху, все же ее обитатели, включая дворян-офицеров, крепко стояли на ногах и в реальности первичной, осознавая ее события и обстоятельства, а не бродили, как во сне, видя всюду образы Тацита и Плутарха и натыкаясь на стены. Вот автор отмечает: заговорщики упоминают «жалование солдат (как у Гальбы)» (с. 108). Но скорее всего, проблема солдатского жалования возникала перед ними из текущей ситуации, а сами солдаты, которые могли делиться с офицерами своими бедами, точно не ссылались на императора Гальбу!
То же относится и к вопросу «почему не захватили Сенат». Захват здания, тем более пустого, из которого уже разъехались присягнувшие сенаторы, не имел никакого стратегического смысла. Сенат интересовал заговорщиков прежде всего как учреждение, издающее акты, имеющие силу закона, никаких реальных рычагов власти он в себе не сосредотачивал, в отличие от императора и Государственного совета. Именно эти соображения, а не образ «народа на форуме», скорее всего, и были причиной тому, что Сенат не пытались захватить.
Но практические планы представляют мало интереса для автора, в отличие от образов, символов, аллюзий — античных или более поздних: император Николай, вышедший к толпе, по мнению Н. Д. Потаповой, ведет себя необычно, «как партийный лидер на митинге» (с. 167). Здесь привлекаются уже английские аналогии, и они (как и упоминание английских газет) еще возникнут в тексте.
На протяжении всей книги время от времени всплывает и используется как безусловно соответствующая действительности концепция «выбитых», «навязанных следствием» показаний декабристов. При этом тому, как именно их выбили и навязали и почему это следует трактовать именно так, посвящена последняя глава «Новый режим власти: дискурс и прагматика следствия по делу декабристов».
Впрочем, начинает ее автор с другой категории источников — мемуаров, точнее «так называемой декабристской мемуаристики» (с. 214). Ведь если тайного общества не существовало, почему оно столь упорно упоминается в мемуарах самых разных людей? Автор признает данную проблему, впрочем, упорство мемуаристов в данном случае, похоже, работает в ее глазах против них: «Множество фактов отрицания на следствии вступает в противоречие с этой мнимой солидарностью (курсив наш. — Авт.) вокруг тайного общества в мемуарах осужденных. Объяснить это непросто…» (с. 211–212). Однако объяснение появляется. Во-первых, видимо, выводы следствия обладали некой гипнотической силой и сообщали ее согласным с ними мемуаристам — так появлялись тексты, «чьи сформулированные “Донесением” коллективные представления обладали силой принуждения» (с. 214). Но речь шла не только о результатах внушения, поддаться которым помогали «новые состояния, порожденные условиями следствия и суда» (с. 214). Оказывается, коллективный пересказ того, чего не было, приносил осужденным моральные дивиденды: «…именно этот приговор дает… право говорить от лица оппозиции, претендовать на внимание» (с. 216), ведь как членов тайного общества их знали в России и Европе, «это слово стало ассоциироваться с протестом… вызывало симпатию к жертвам режима» (с. 215). Автор по аналогии апеллирует к судебным фальсификациям XX в. — этот аргумент сейчас широко распространен и часто применяется как повод усомниться в любом неподходящем решении тех или иных властей. Однако представляется, что построенная автором громоздкая конструкция так и не становится бесспорной и убедительной.
Прежде всего Н. Д. Потапова старается убедить читателя в версии событий, которую не описывает ни один мемуарист ни с пострадавшей, ни с правительственной стороны, причем «так называемая декабристская мемуаристика» достаточно многочисленна и написана разными людьми и в разных обстоятельствах. Это, кстати, делает едва ли применимой (по крайней мере, ко всему ее объему) спорную концепцию М. М. Сафонова о «коллективном публицистическом проекте» декабристов17 — и именно данную концепцию как вероятную упоминает Н. Д. Потапова (с. 213–214), чаще всего мало заимствующая из предшествующей литературы по теме.
Кроме того, далеко не каждый автор мемуаров (не говоря уже о тех, кто их не писал) относился к тем, кто «публично заявляли о себе как о политической силе, оппозиции» (с. 214). Точнее говоря, активное участие в общественной жизни во время и после ссылки принимали среди декабристов, доживших до того времени, единицы, что было следствием не только по-прежнему наложенных на них ограничений, но и их собственных настроений.
Что же касается аналогии с более современными событиями, то, если мы выходим из плоскости бытового разговора, вариант «там подтасовывали, значит — и здесь тоже» без дополнительных аргументов работать не будет. И еще об аналогиях. Кажется, никто из выживших репрессированных ХХ в., осужденных в результате сфальсифицированных дел, не пытался впоследствии доказывать, что сфабрикованное обвинение в самом деле реально. Человек мог позиционировать себя как жертву репрессий, но не как участника «троцкистско-зиновьевского заговора». В случае декабристских мемуаров мы видим нечто иное, и вряд ли это случайно.
Подводя промежуточный итог, следует признать, что декабристская мемуаристика достаточно сложна и неоднородна, чтобы после анализа, занимающего всего несколько страниц, объявить ее совершенно недостоверной.
Далее исследование наконец переходит к вопросу о следственных показаниях. Автор вполне здраво оценивает отношение к такому источнику исторической науки советского периода: «Как откровенные рассматривались показания наиболее радикальные, революционного характера» (с. 216), а отрицания — «как сознательное лавирование борцов, вынужденных сознаться лишь в связи с предательством товарища» (с. 217). Описанная мотивировка отрицаний — не единственно возможная, но порой встречающаяся. Также убедительно звучит вывод: «Советский подход настораживает… тем, что игнорирует целый пласт материала» (с. 217). Но дело в том, что Н. Д. Потапова тоже игнорирует целый пласт документального материала тот, что привлекал внимание советских исследователей. Ею рассматриваются преимущественно показания лиц мало замешанных и отрицающих свое членство в обществе. Цель (возможно, слишком сложная и масштабная для одного исследователя) — рассмотреть весь объем следственных показаний как единое целое — так и остается недостигнутой.
На пути к разбору ситуации с показаниями еще раз возникает сюжет об ориентации на Европу. Героем его становится лично император; его активное участие в процессе следствия автор толкует в рамках своей концепции — на дворцовых допросах он «буквально производил сдвиг идеологической интерпретации» (с. 223). И направление этого сдвига было неслучайным: «Новый режим с самого начала адресуется к читающей европейской публике через газеты» (с. 224) — причем российские газеты (с. 237, 254). Аргумент в пользу подобной идеи — «идентичность того, о чем речь шла на допросах и на страницах европейской прессы» (с. 241). Звучит солидно, однако выясняется, что речь идет, к примеру, о сомнениях в отречении Константина. Как говорил принц Гамлет, «нет надобности в духах из могилы для истин вроде этой» — и анализа прессы не требуется, когда в ситуации, где по закону должен править Константин, а он то ли отрекся, то ли нет: газеты будут обсуждать этот вопрос, а присутствующие на первых допросах — упоминать. В качестве других совпадений приводится ожидание прибытия того же Константина и роль в сложившейся ситуации Михаила Павловича — пожалуй, обстоятельства того же порядка.
Отдельный раздел главы посвящен эпизоду, на который уже обращали внимание рецензенты18. Без достаточных обоснований автор утверждает: «Главный опыт знакомства с политикой… у Николая был… во время… образовательного путешествия по Англии» (с. 225), где примерно в то же время (1816 г.) происходили некие беспорядки. Автор находит много сходства между беспорядками: например, армия стреляла в народ (заметим, ничего не сказано о том, что кто-то испытал шок). Здесь, как и в случае с мемуарами, автор пытается описать то, чему нет никаких свидетельств. Беспорядки были, Николай I был в Англии, но о том, что эти два обстоятельства как-то связаны, никто не говорит. Это деталь, но приписывать ей определяющую роль, каким бы то ни было образом повлиявшую на будущего императора, по меньшей мере рискованно.
Рассуждая о следствии, Н. Д. Потапова прежде всего рассматривает дворцовые допросы, а именно несколько проведенных в первые дни (допросы А. Н. Сутгофа, К. Ф. Рылеева, С. П. Трубецкого, упоминаются также А. А. Бестужев, П. Г. Каховский, Е. П. Оболенский, Д. А. Щепин-Ростовский). Анализируя их, автор пытается проследить, как могла сложиться картина, известная нам из показаний, если почти ничего из описанного в ней, согласно авторской концепции, не было в действительности.
Хотелось бы отметить особенность такого вида документов, как дворцовые до- просы — тем более самые первые. В ходе них процедура допроса (набор вопросов только складывался), да и сама картина произошедшего еще проясняется. Кроме того, за редкими исключениями дворцовый допрос — это не собственноручная запись показаний, ее выполняет проводящий допрос (обычно — генерал В. В. Ле- вашев, ряд первых допросов ведет генерал К. Ф. Толь). Не во всех дворцовых до- просах записаны вопросы, обращенные к подследственному. Там, где они есть, нет полной уверенности, что они исчерпывающи (так, например, в записи допроса В. Л. Давыдова имеется всего один вопрос на две страницы текста)19. Часто вопросы приходится угадывать, исходя из текста ответов, однако и тут, если появляется новая тема, не всегда можно понять: это ответ на заданный вопрос или инициати- ва подследственного и какой вопрос мог быть задан. Н. Д. Потапова тем не менее берет на себя смелость по особенностям текста судить о том, как, по ее мнению, навязывались допрашиваемым версии событий. Любая перебивка темы, подобная указанным выше, интерпретируется автором в этом направлении, иногда с более сложным обоснованием. Например, о допросе Рылеева: «Затем последовала пауза, изменение ритма письма, и важное признание: “Общество точно существует…”» (с. 258). Наблюдение интересное, но едва ли поддающееся столь однозначной интерпретации.
Еще одно наблюдение автора — однотипность записей дворцовых допро- сов: «Левашев штамповал одни и те же формулировки» (с. 272). Однако в том ведь и дело, что это записи одного и того же допрашивающего, и как он ни стремился передать сказанное разными людьми (скорее всего, более-менее точно), это будет несомненно отражаться в его изложении на бумаге, к тому же он все-таки генерал, а не стенографист.
И еще одна трудность. Автор пытается построить цепочки упоминаний, которые обеспечивали появление того или иного лица в показаниях. Но насколько они обоснованы? Довольно просто объяснить, почему знакомы члены Северного тайного общества К. Ф. Рылеев и С. П. Трубецкой, но если общества не существует, почему знакомы литератор, служащий Российско-американской компании из небогатых дворян, и князь, аристократ, гвардейский полковник, литературных произведений не пишущий и последний год проведший на службе в Киеве? Часть знакомств можно объяснить, минуя тайное общество (и они так нередко поначалу и возникали): например, службой в одном полку или связью Рылеева с литераторами и моряками, но к ключевым деятелям декабристского общества они не всегда применимы.
Почему, если не существует тайных обществ (и разногласий внутри них), Трубецкой уже 15 декабря называет на допросе служащего во 2-й армии полковника П. И. Пестеля? Можно предположить петербургское знакомство, но оно состоялось довольно давно, и у нас нет никаких данных об их встречах за прошедший год (Трубецкой служил в 1-й армии, а ремарка Н. Д. Потаповой, что он с Пестелем «иногда встречался в Киеве по службе» (с. 319), неверна — сам Трубецкой говорит о встрече в Петербурге и переданных ему в Киеве словах Пестеля20). И почему Рылеев и Трубецкой, отсутствовавшие на Сенатской площади (по крайней мере, не замеченные в рядах восставших), оказываются среди первых арестованных? Таких вопросов можно задать много.
В ряде случаев, чтобы оправдать подобные упоминания, Н. Д. Потапова предполагает (или даже утверждает), что человеку показывали чьи-то показания, доносы и другие документы. Рылееву, по ее мнению, «вероятно, прочли протокол Сутгофа и донесение Дибича» (с. 257), более того — следователи предлагали «арестованным подтвердить, что Пестель был членом тайного общества» (с. 276) (почему они, кстати, это подтверждали, а не спрашивали «кто это?»), «письмо Ростовцева было, вероятно, предъявлено на допросах» (с. 280), «показания Вадковского были предъявлены Трубецкому, который дал им свою интерпретацию», а самому Вадковскому предъявили какие-то «донесения агентов» (с. 289).
Однако стоит помнить, что у нас нет свидетельств о чтении такого количества посторонних документов, а имеющиеся свидетельства о практике уличения показывают, что человеку говорили о показаниях именно против него, а не против третьих лиц. Вот характерный для автора прием, демонстрирующий то, как делается вывод в пользу версии о чтении чужих показаний и других документов на допросе: «[Николай] Бестужев ссылается в этом показании [о причинах восстания] на письмо Ростовцева. Прочли ли ему это письмо на следствии? Или он знал о нем раньше? Более вероятным кажется уличение…» (с. 284). Почему оно кажется более вероятным, если письмо Ростовцева вообще не называет имен? Между тем если допускать существование тайного общества, то нам известна вполне достоверная траектория распространения информации о письме Ростовцева, которую запускает он сам и о которой есть несколько свидетельств, в том числе Николая Бестужева.
Обратим внимание еще на одну черту аргументации Н. Д. Потаповой. Многие свидетельства, если присмотреться, толкуются достаточно произвольно, удобным для ее концепции образом.
Итак, если на Сенатской площади происходит что-то случайное и стихийное, то Рылеев вообще не имеет к нему отношения. В соответствии с этой идеей Н. Д. Потапова рисует читателю следующую картину: «Греч вспоминал, что вечером у Рылеева по обыкновению могли сидеть соседи, Штейнгель, Булгарин, курить сигары, пить чай… И вдруг — арест, жена, маленькая дочь. Каким могло быть расставание, мелодраматически представлял в своих воспоминаниях Бестужев» (с. 257) Между тем сам Н. И. Греч, 14 декабря у К. Ф. Рылеева, похоже, не появлявшийся, рисует другую картину: «По окончании сражения Рылеев скитался, не знаю где, но к вечеру пришел домой. У него собралось несколько заговорщиков… между прочими барон Штейнгель. Они сели за стол и закурили сигары. Булгарин… пришел к нему часов в восемь и нашел всю компанию, преспокойно сидящую за чаем. Рылеев встал, отвел его в переднюю и сказал: “Тебе здесь не место. Ступай домой. Я погиб. Прости! Не оставляй жены моей и ребенка!” Поцеловал его и выпроводил из дому»21.
Основная сцена, записанная, по-видимому, со слов Ф. В. Булгарина, во-первых, не включает его самого в число участников чаепития, во-вторых, слова Рылеева показывают, что арест надвигается на него отнюдь не «вдруг». Столь же напряженную обстановку в квартире описывает и зашедший туда в какой-то другой момент того же вечера Н. Н. Оржицкий22.
Вот еще один эпизод, самим автором увязанный с показаниями Н. Н. Оржицко- го. Н. Д. Потапова объявляет версией следствия сюжет отсылки писем С. П. Трубец- кого с уезжающими из Петербурга П. Н. Свистуновым и Ипполитом Муравьевым- Апостолом. При некоторой невнятности формулировки можно предположить, что сомнению подвергается не само существование писем, а их содержание, связанное с планами выступления. Автор ссылается на показания Свистунова и Оржицкого, но если Свистунов действительно рассказывает о письмах Трубецкого, то Оржиц- кий получает не письма от Трубецкого, а устную просьбу передать информацию Сергею Муравьеву-Апостолу от Рылеева. С Трубецким Оржицкий вовсе незнаком, а Рылеева знает по судебным делам, по поводу которых и зашел к нему 13 декабря (и уже из-за беспокойства о нем — еще раз пришел вечером 14-го). Трубецкой здесь возникает только в словах Рылеева, 13 декабря — что он назначен «начальником» у собирающихся выступить, а на следующий день — «что Трубецкой и Якубович им изменили»23. Возможно, если все сюжеты представляются сочиненными и навязанными, то какая разница — Трубецкой или о Трубецком? Во всех остальных случаях разница, несомненно, есть.
Если эти два случая связаны с подгонкой фактов к теории, а именно к формуле: «следствие искусственно объединяло лиц… случайно попавших в его поле зрения» (с. 393), то другие подобные приемы связаны с иными концептами автора, в том числе с идеей «прямого провода» между следственным процессом и общественностью, а также прессой (в идеале — европейской).
Вот эпизод, сохраненный воспоминаниями Трубецкого: к нему в камеру приходит А. Х. Бенкендорф, чтобы разузнать, что известно подследственному о контактах М. М. Сперанского с тайным обществом и, дабы добиться большей откровенности, обещает: «Разговор наш останется тайною для всего света, как будто бы он происходил между вами и самим государем»24. Эпизод действительно любопытный, поскольку описывает ситуацию, официальными бумагами следствия никак не сохраненную. Вот какой вывод делает из него Н. Д. Потапова: «За его обещанием… сквозила уверенность другого рода: слова допрашиваемых в основном услышит “весь свет”» (с. 268), причем, по ее мнению, именно это, а не обещание тайны, должно было обнадежить заключенного. Такое толкование выглядит элементарным передергиванием, и все обстоятельства описанной сцены ничем не подтверждают его.
Не вполне, мягко говоря, точны и занимающие немалое место в данной главе аналогии с теми или иными событиями в других странах, которые, по мнению Н. Д. Потаповой, вдохновили подследственных на «рационализации», то есть вымышленные версии. Так, аналогию идее вывоза императорской фамилии на корабле она находит в южноамериканских событиях, при этом сама же отмечает, что там на корабль сажали отнюдь не короля, а арестантов (с. 296).
Ряд искажений связан с тем, чтó именно, по мнению автора, возглавляло список приоритетов следствия: «Следствие интересовали прежде всего признание факта существования тайного общества и перечисление имен его членов» (с. 362). Как показывает анализ следственных материалов, такие приоритеты существовали разве что на начальном этапе следствия (и в начале допросов каждого подследственного), но затем дополнялись другими темами, а на финальном этапе наибольшее внимание следователей занимал ряд сюжетов, связанных с обвинениями в планах цареубийства и истребления императорской фамилии (см., например, хронологическую раскладку тем следствия в книге О. В. Эдельман25). Однако поскольку не следствие, а автор данной книги на самом деле ограничивает свое внимание материалами первых допросов и вопросов о членстве в тайном обществе, то под это подгоняются факты: например, появляются утверждения, что именно за признание членства с подследственных снимали кандалы, разрешали писать императору и родственникам и т. п. Несомненно, отрицание своего членства в обществе и каких-либо знаний о нем могло вызвать ужесточение условий содержания (но не всегда, а при долгом упорстве или наличии содержательных показаний против данного человека), однако для их смягчения одного признания себя членом общества было недостаточно. Кроме того, как объяснить ситуацию с людьми, проведшими в кандалах значительную часть следствия, но отнюдь не отрицавших все это время свою связь с обществом (М. П. Бестужев-Рюмин, П. И. Борисов, М. А. Бестужев)?
Сюжеты, где речь идет о признании членства и еще о чем-то Н. Д. Потапова отсекает. Например, по ее словам, П. И. Фаленберг, вначале отрицая такое членство, позже «принял формулировки следствия и признал, что был “членом тайного общества”» (с. 368). Однако в случае П. И. Фаленберга признание было результатом отнюдь не предъявления ему каких-то формулировок. Он написал о желании повторно встретиться с В. В. Левашевым через неделю после дворцового допроса26 и главным в последовавшем признании для следствия (а также для дальнейшей судьбы Фаленберга) было другое признание — в якобы данном обещании участвовать, если потребуется, в цареубийстве27. Вовлеченные в этот сюжет следствием П. И. Пестель и А. П. Барятинский привлекли внимание автора в другом разделе, и сюжет снова передается с ошибкой: «Речь шла о том, чтобы выбрать своего рода “апостолов революции” — “12 отважных членов”. Пестель в итоге согласился с обвинением. Барятинский же боролся, протестуя» (с. 319). Проблема в том, что дело обстояло в точности наоборот: Пестель так и не признал, что давал поручение Барятинскому набирать «обреченный отряд», а Барятинский в итоге на очной ставке с Фаленбергом согласился, хотя и не сразу, что брал с него обещание о цареубийстве28. Но, по-видимому, автор, не занимаясь этими темами подробно, выхватывает из них отдельные детали и на их основании делает свои заключения.
П. И. Пестелю не повезло по меньшей мере еще раз в этой книге. В первой главе мельком упоминается «написанная Пестелем в крепости по требованию Комитета редакция “Русской правды”» (с. 75). Это замечание совершенно игнорирует сложную и хорошо изученную историю документа — как написания его двух редакций до ареста29, так и попытки членов общества спрятать ее и не сразу увенчавшихся успехом поисков ее во время следствия в окрестностях Тульчина30. Скорее всего, Н. Д. Потапова перепутала сочинение Пестеля с конституцией Н. М. Муравьева, один из вариантов которой был изложен в период следствия.
Другой способ формирования авторской концепции — генерализация отдельных случаев. М. П. Бестужев-Рюмин упоминает, как ему говорили об облегчении участи Е. П. Оболенского. По этому поводу Н. Д. Потапова резюмирует: «Заключенные узнавали, что происходит, если согласиться на уговоры следователей» (с. 364), хотя мы не знаем, насколько широко была распространена такая практика.
После очной ставки С. П. Трубецкого и С. М. Семенова, где не удалось добиться нужных следствию признаний, Трубецкому говорят о возможности ареста его брата, члена Союза благоденствия. Резюме автора: «Следственный комитет прибегает к угрозе арестовать родственников подследственных» (с. 391), и выносит идею о «страхе за близких людей» в итоговые выводы (с. 403).
Иногда желание дать краткому сюжету впечатляющую и емкую характеристику может сослужить дурную службу: «С клеветой буквально не на жизнь, а на смерть сражался на следствии Канчиялов», — говорится в книге (с. 370). «Клеветой» здесь названы показания Н. И. Лорера о принадлежности к тайному обществу Г. А. Канчиялова, умершего в марте 1826 г. Таким образом, на Н. И. Лорера без должного обоснования повешены обвинения в клевете на человека и смерти его.
Чрезвычайно характерен отбор лиц, упомянутых в этой главе. Мало замешанные, привлеченные к заговору в Петербурге перед самым восстанием, наконец те, кто довольно упорно запирался, — всех их можно увидеть здесь: В. Н. Лихарев, А. И. Черкасов, М. А. Назимов, И. Н. Горсткин, Д. П. Зыков, Д. А. Искрицкий, В. И. Штейнгейль, В. К. Кюхельбекер, П. П. Коновницын, М. Д. Лаппа, А. С. Гангеблов, Д. А. Арцыбашев, Ф. П. Шаховской (с. 357–358), О. М. Сомов, А. Е. Ринкевич, В. М. Голицын, Петр Бестужев, Н. П. Кожевников, Н. В. Басаргин, А. М. Миклашевский, А. В. Капнист31, И. Н. Хотяинцев, В. Л. Лукашевич (с. 372–389). Из Общества Соединенных славян упомянуты далеко не самые активные члены — А. Ф. Фурман, Н. Ф. Лисовский, А. Ф. Фролов. Цитируются фразы Лисовского и Фролова о каких- то не вполне трезвых разговорах с П. Д. Мазганом и П. Ф. Громницким во время «собрания артиллерийских офицеров в Лещине» (с. 390). Сами Мазган и Громницкий, в дела тайных обществ вовлеченные сильнее и более осознанно, не процитированы. При этом многие возникающие от подобных беглых упоминаний вопросы (было ли собрание в Лещине? существовало ли Общество Соединенных славян? и если нет, то по какой логике понадобилось выдумать еще и его?) остаются без ответа, как и многие другие.
Автор так и не дает четкой и полной картины ни работы следствия в своей версии, ни того, что же было на самом деле вместо тайных обществ, существование которых отрицается, довольно аморфно сообщая о такой же аморфной «сети связей» и знакомств.
В самом деле, как можно писать о том, чего нет? Автор неоднократно указывает, что текстов времен «доарестной жизни» не сохранилось (на самом деле их немного, но они есть); показания на следствии, как доказывает третья глава, навязаны, а декабристские мемуары находятся под гипнотическим воздействием формулировок Следственного комитета, поскольку «предложенная следствием роль» давала мемуаристам «имя и голос», а позже, «сначала в Сибири и после, возвращаясь в Россию, они пытались этим голосом воспользоваться, представляя себя и своих товарищей единой силой, желавшими быть полезными правительству, ратовавшими за освобождение крестьян, исправление злоупотреблений… победителями Наполеона» (с. 271).
Но поскольку всего этого, по мнению автора, на самом деле не было (или все-таки не всего? Наполеона они вроде бы побеждали? какие-то убеждения имели? конституции и манифесты сочиняли?), о чем же тогда книга? Как говорил классик XX в.: «И живота у него не было… и хребта у него не было… Так что непонятно, о ком идет речь. Уж лучше мы о нем не будем больше говорить»32.
В заключении Н. Д. Потапова говорит о целях работы, о том, как они менялись в процессе написания книги. Первоначальная задача формулируется так: «Понять простую вещь: как можно заставить человека признаться в том, чего он не совершал? Как можно подавить его волю, а затем подчинить его воображение, память, заставить поверить, что то, что с ним происходило, происходило именно так? Так, как ему говорят, а не так, как думал он сам?» (с. 403). Заметим, эти постулаты не являются результатами исследования, выводами из него, они привнесены уже в качестве готовых утверждений, которые автор заранее полагает верными.
Впрочем, далее они перестали быть приоритетными: «Однако вскоре ответ на этот вопрос перестал казаться сложным: жизнь, здоровье и покой близких людей, смерть, страх… вот она, цена протеста. “Левиафан” Звягинцева внятнее любых исследований показывает этот конфликт» (с. 403).
Наименее спорное утверждение здесь — это замечание о кинофильме «Левиафан», и оно же вызывает вопрос: почему для исследования этих тем автор не обратился к тем сюжетам, где они действительно присутствуют — к упомянутому фильму или к чему-то еще (например, репрессивной практике советского времени), а посвятил книгу теме, где для того, чтобы найти эту «цену протеста», материал приходится перебарывать и искажать?
Однако что же все-таки явилось окончательной целью? Выяснение другого во- проса: «Как стало возможно то, что несколько десятков человек (а с ними и несколько сотен) осмелились сказать “нет” тем, кто, как казалось и окажется, готов действовать силой на площади и в казематах» (с. 403).
Проблема в том, что, закрывая книгу, читатель, по нашему мнению, так и не получает ответа на заявленный вопрос. Мало того, можно ли говорить о каком-то «нет», если, по мнению автора, в большинстве своем подследственные полностью согласились с навязанной им точкой зрения о том, чего не было, да так и придерживались ее до конца жизни? В чем же состоит декларативно заявленная Н. Д. Потаповой «смелость» осужденных?
Возвращаясь к многократно упомянутым — и нами, и автором — иностранным газетам, хотелось бы сказать, что именно их материалы, авторы которых пытаются осмыслить неясную ситуацию в России в условиях недостатка информации, пожалуй, составляют наиболее интересную для историка часть книги. Здесь даже при беглом взгляде видны любопытные темы. Вот обнаруживаются, казалось бы, совершенно неопровержимые доказательства тому, что внезапная смерть Александра I напоминает смерть Павла I, а отречение Константина — отречение Петра III, а следовательно… Но, как мы знаем, далее не оправдывается ничто из этих выводов. Вот газеты сообщают о недовольстве российской армии на юге; зная, что такое недовольство было совершенно реальным фактом, можно предположить, каковы были источники подобных сообщений. Словом, материал информативен и имеет потенциал для изучения. Неудобство, правда, состоит в том, что во многих случаях невозможно понять о какой конкретно газете идет речь: приводя какое-то мнение, Н. Д. Потапова нередко дает в примечании ссылку на несколько газет, даже если она поставлена после цитаты (например, на с. 116 дается ссылка одновременно на 7 газет и вдобавок одну книгу).
И еще одно соображение. Тот самый вопрос, который Н. Д. Потапова поставила отправной точкой своего исследования, начатого в диссертации — как именно, из каких элементов и каким образом создает Следственный комитет по делу декабристов картину, нашедшую в итоге воплощение в его «Донесении…» и, пожалуй, влияющую на умы до сих пор, — этот вопрос, как нам представляется, попрежнему ждет своего исследования. Автор данной монографии, поставив его, уходит в сторону полного отрицания реальности тайного общества и поиска элементов, из которых собран его «образ», за границами следственного процесса. При этом исследование документов следствия так и осталось на уровне рассмотрения первоначальных дворцовых допросов и вопроса о членстве в обществе. Таким образом, бóльшая часть материалов следствия оказалась за бортом исследования, претендующего на решение вопроса, что именно оно собой представляло. Будем надеяться, что рано или поздно эти материалы все-таки окажутся надлежащим образом исследованы.
У монографии Н. Д. Потаповой есть еще одна особенность. За последние годы мы привыкли к появлению в прессе и на телевидении самых смелых высказываний о движении декабристов, не имеющих ничего общего с исторической наукой и даже не имеющих ее в виду, но, как правило, сделанных с консервативных, мо- нархических или конспирологических позиций. Книга Н. Д. Потаповой показывает нам, что работу, имеющую малое отношение к исторической науке, можно написать с любых политических позиций. Строго говоря, это логично: главным критерием научности исторической работы является ее научность и ничто иное.
В заключение — еще несколько слов о методах автора. В своей лекции «Русский республиканизм, декабристы и политический кризис 1825 года», прочитанной 28 ноября 2019 г. в Москве в усадьбе Муравьевых-Апостолов в рамках цикла, организованного исследовательским центром «Res Publica» Европейского университета в Санкт-Петербурге, Н. Д. Потапова в числе прочего рассказала о своем участии в годы учебы в семинаре профессора Санкт-Петербургского университета Ю. Д. Марголиса33. Она хотела заниматься изучением конституционных проектов декабристов, и Марголис предложил ей проанализировать «Манифест к русскому народу» Трубецкого. Анализ вызвал немалые трудности и вопросы: «Почему он пишет про суд присяжных? Почему он пишет про отмену цензуры, про свободу вероисповедания — почему он ставит это на первое место? Почему он пишет о проблемах армии, почему ее нужно сокращать? Что происходило?» (Эти же вопросы, кстати, автор продолжает задавать спустя многие годы и в монографии.) Но вместо того, чтобы искать исторический контекст, к чему, возможно, и призывал ее Марголис, автор занялась поиском контекстуальности, то есть поиском дословных совпадений понятий и формулировок, встреченных в «Манифесте к русскому народу»: суд присяжных, свобода вероисповедания и т. п. И они нашлись в немалом количестве — но не в трудах европейских мыслителей, которых называли декабристы как источники своего вольномыслия и о которых в этом контексте писала российская историческая наука в предшествующие сто лет, а в европейской прессе. И тут работа пошла: «…и тогда “Манифест” со мной заговорил. Трубецкой со мной заговорил, со мной заговорил ранний Пестель… Я не скажу, что я понимаю их до конца, но я начала чувствовать, что мы не умели разговаривать с прошлым»34.
Но, по нашему мнению, этот разговор — по крайней мере, в проанализированной книге — так по-настоящему и не начался. Отказываясь от использования методов исторической науки (в первую очередь — источниковедческого анализа), подменяя научную критику имеющихся источников подбором случайных аналогий, объявляя заведомо недостоверным практически весь традиционный и доступный исследователям корпус источников по теме и заменив его случайно выбранными подборками английской провинциальной прессы, возможность использования которой как источника по истории движения декабристов не доказывается, а постулируется априори (так можно продолжать до бесконечности — есть, например, газеты французские, немецкие, испанские, американские…), автор написала в итоге монографию, может быть, по социологии (представив не слишком корректную по отношению к историческим фактам собственную версию прошлого), но никак не по истории, несмотря на то что книга вышла в серии «Территория истории». Создается впечатление, что автор проникла на эту территорию без пропуска./p>
Н. Д. Потапова заявила задачами своего исследования важные и действительно интересные вопросы, требующие повышенного внимания исследователей, но в итоге, подменяя их анализ декларативными утверждениями, заданными априори постулатами и случайными аналогиями, предлагает читателю в общем-то такую же сочиненную и навязанную ему версию событий, как, согласно ее концепции, это делали следователи, навязывая свое толкование безропотно уступающим им подследственным. Только стоит ли ожидать, что читатели примут искусственную авторскую версию так же безропотно?