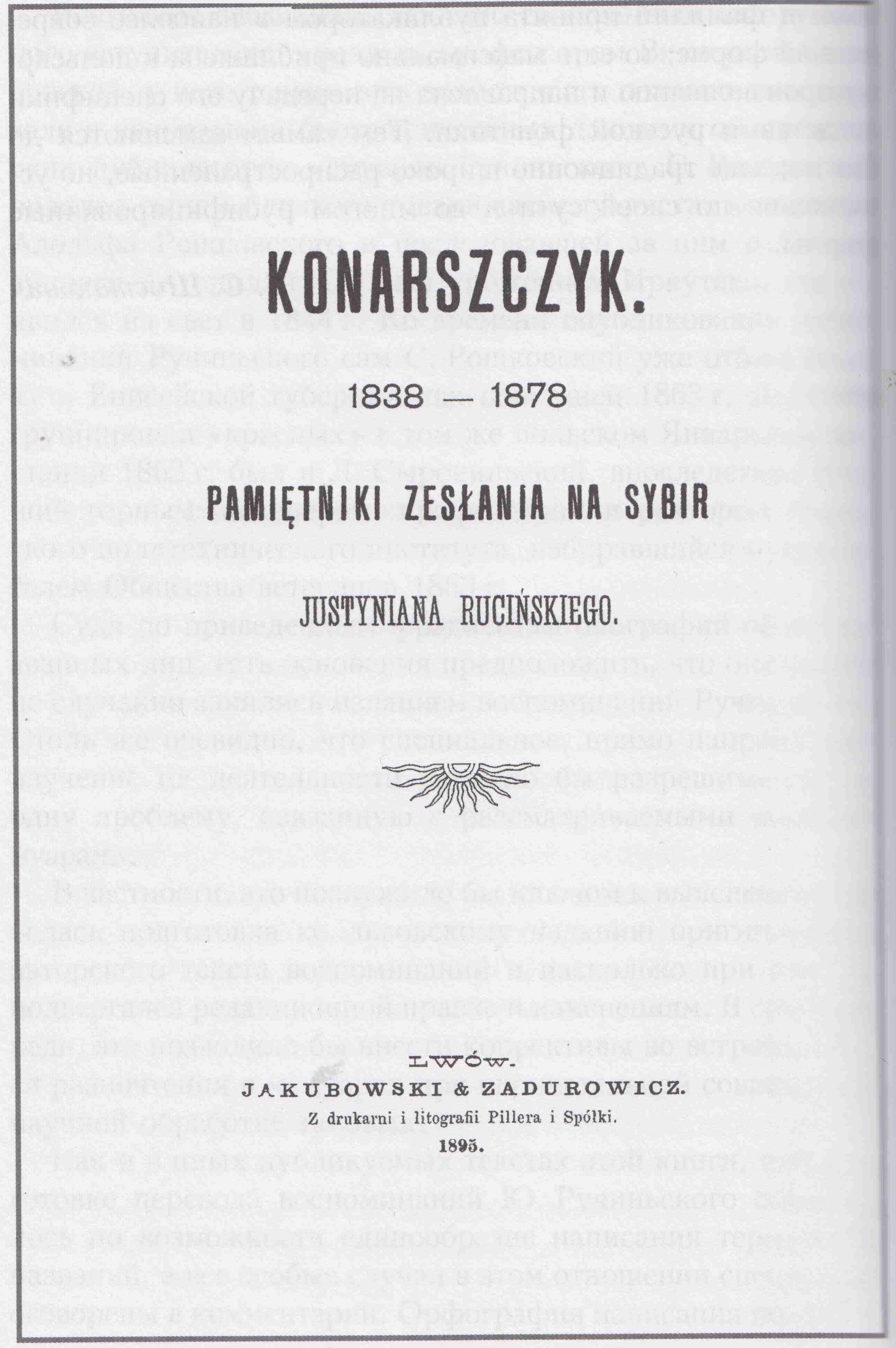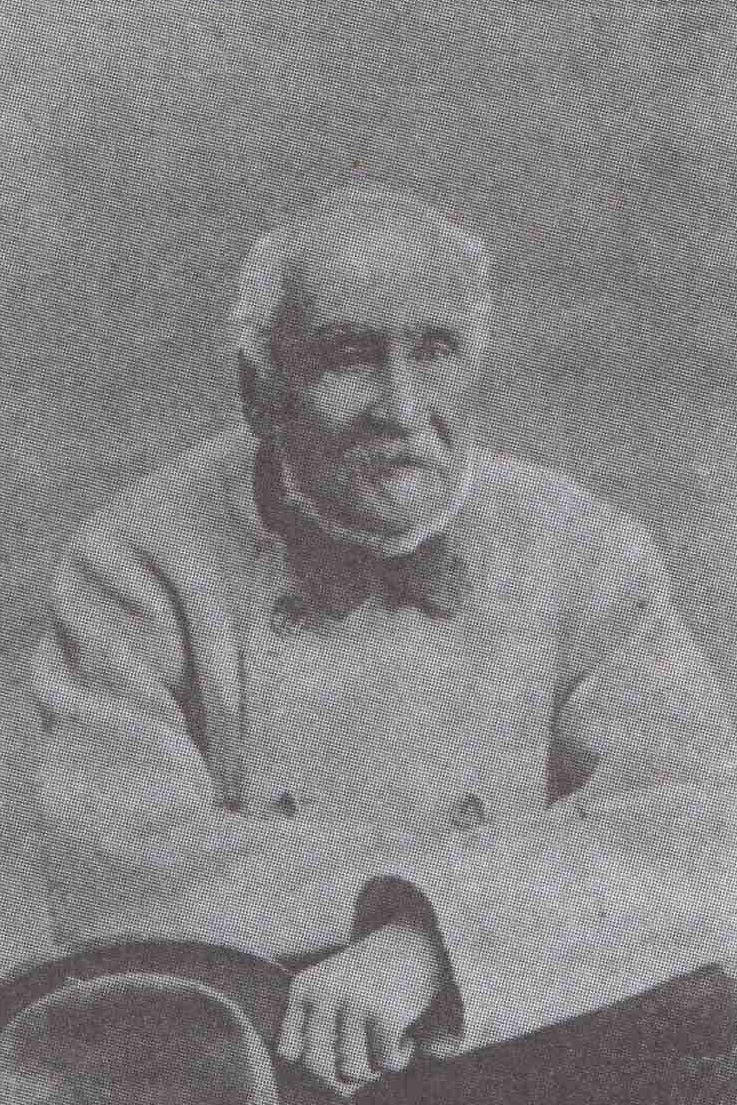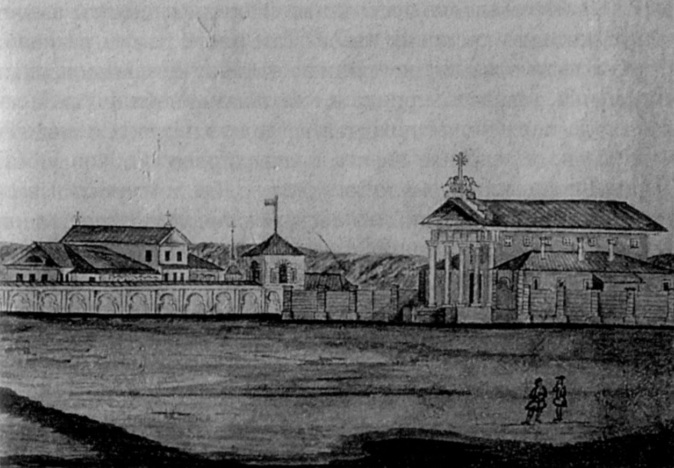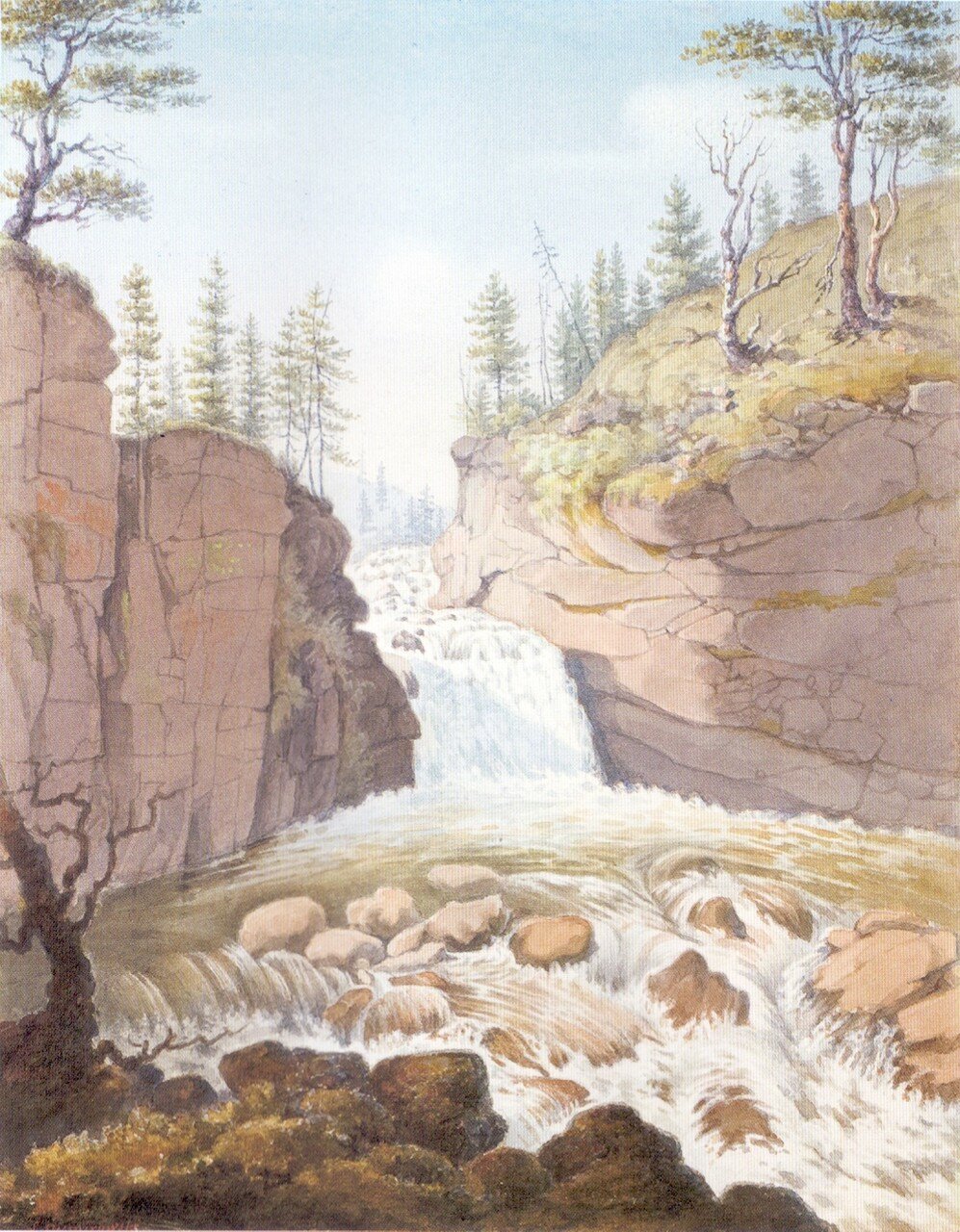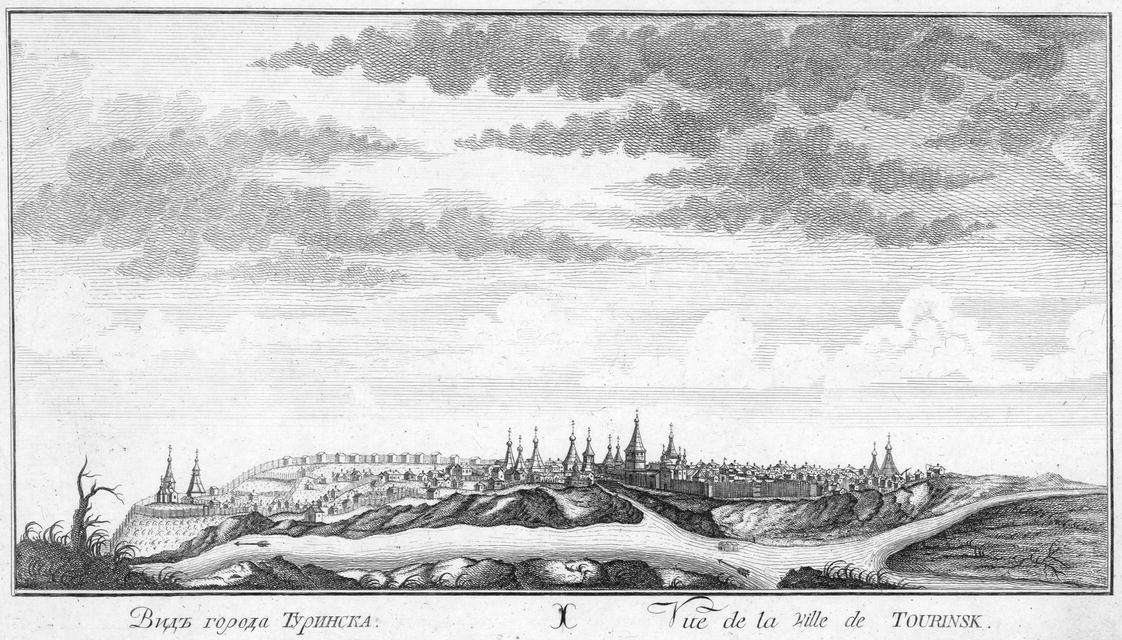Сетевая публикация не вполне совпадает с бумажной. В книге несколько блоков воспоминаний, обладающих сквозными примечаниями, поскольку сетевая публикация является только частью книги, то нумерация примечаний не совпадает с оригинальной, номер примечания в бумажной публикации указан в тексте в скобках.
Конарщик Юстыньян Ручиньский и его воспоминания о сибирской ссылке
В российской исторической ментальности польская политическая ссылка первой половины XIX в. обыкновенно связывается с участниками польского Ноябрьского (1830–1831 гг.) национально-освободительного восстания. Что касается каких-либо иных польских освободительных движений и организаций той же эпохи и ссылки их участников в Сибирь, то сколько-нибудь определенное представление о таковых практически отсутствует не только у большинства российской читающей публики, но даже и у профессиональных историков. Красноречивым подтверждением сказанного может служить уже называвшаяся нами в другом разделе книги многотомная «История Сибири» — самый крупный и в советский период авторитетный коллективный труд по данной теме, где в соответствующем хронологическому периоду томе из польских политссыльных фигурируют (да и то представлены чрезвычайно кратко) исключительно повстанцы 1830 г.1
Читатель, уже успевший познакомиться с первым разделом антологии польской мемуаристики — записками В. Мигурского и драматичной судьбой супружеской четы Мигурских, вероятно, обратил внимание, что мотивом высылки В. Мигурского явилась его принадлежность к так называемым заливщикам — эмиссарам из «экспедиции Ю. Заливского» 1833 г. Если начать отсчет этапов политических репрессий царизма против участников польского национально-освободительного движения первой половины XIX в. от эпохи, представленной вниманию читателя фигурой В. Мигурского, то Юстыньян Ручиньский относится уже к следующему этапу и представляет в данной антологии уже иную польскую конспиративную патриотическую организацию. Эта принадлежность мемуариста, вне всякого сомнения, хорошо осознавалась как им самим, так и его современниками. Об этом наглядно свидетельствует уже заглавие публикуемых ниже воспоминаний Ручиньского, ибо в самое начало его оказывается вынесен термин «конарщик».
Совершенно не случайно тот же термин использован и нами — в заглавии данного предисловия — в качестве существеннейшей характеристики Ю. Ручиньского. На наш взгляд, этот термин не просто отражает органическую связь мемуариста с историей одного из значительных разделов польского общественно-освободительного движения, он принципиально важен для адекватного постижения миропонимания и психологической атмосферы, свойственных данному мемуаристу и отразившихся в известной мере в его произведении. Поскольку же слово «конарщик» в русском обиходе неизвестно подавляющему большинству, кроме немногочисленных специалистов, необходимо пояснить, что оно означает как по буквальной своей этимологии, так и по более широкому ассоциативному ряду исторических фактов и событий, оказывающихся с ним в непосредственной связи.
Название «конарщик» закрепилось за участниками существовавших на землях Украины, Литвы и Белоруссии отделений тайной демократической организации «Содружество польского народа». Образовано оно было от имени основателя последних, выдающегося деятеля польского освободительного движения Шимона Конарского (родился в 1808 г.— расстрелян 27 февраля 1839 г. по приговору царского суда в Вильно (современный Вильнюс). Ш. Конарский являлся участником Ноябрьского польского восстания 1830–1831 гг., после подавления которого эмигрировал во Францию. Там он проявил себя как активный деятель карбонарского движения. Среди прочего Конарский участвовал в уже упоминавшийся «экспедиции Заливского» 1833 г.— неудавшейся попытке возобновления восстания в польских землях2, революционном походе итальянских карбонариев в Савойю в январе 1834 г., был одним из создателей организации «Молодая Польша», образованной в качестве федеративной части руководимого Дж. Мадзини тайного международного союза революционно-демократических организаций, известного под названием «Молодая Европа».
В качестве эмиссара «Молодой Польши» Ш. Конарский в 1835 г. (выражаясь словами из примечания о нем и о его организации, сделанного к польскому изданию воспоминаний Ю. Ручиньского)3 «взял на себя миссию политического агента и тайно прибыл в страну (то есть в пределах бывшей Речи Посполитой. — Б. Ш.) с целью пропагандирования, насаждения и распространения обширного объединения на началах, обдуманных и разработанных эмиграцией». В соответствии со своими весьма радикальными воззрениями он намечал далеко идущий план действий по объединению всех демократических союзов и распространению расширенной таким образом организации на всю Польшу. Кроме того, им задумывались привлечение людей к революционно-освободительной деятельности, сбор оружия, а также (проект, даже в среде конспираторов наталкивавшийся на далеко не однозначное к нему отношение) выявление сведений о собственности и доходах имущих слоев польского общества, с тем чтобы все средства, которые бы превышали суммы, признанные (по им же предложенному расчетному критерию) максимально допустимыми, конфисковать на дело революции.
Тайная демократическая освободительная организация «Содружество польского народа» (далее сокращенно именуется нами СПН. — Б. Ш.) была основана в феврале 1835 г. (в июле того же года был подписан ее устав) и действовала в обстановке конспирации на землях расчлененной Польши. Центр ее находился в Кракове — на территории самоуправляющейся так называемой Краковской Республики, окруженной территориями галицийской Польши, относившимися в ту пору к владениям Австрийской империи. Среди основных ее создателей и руководителей следует назвать повстанца 1830–1831 гг., конспиративного деятеля польского освободительного движения, одновременно являвшегося видным поэтом революционно-демократического течения в литературе Северына Гощыньского, а также трех эмиссаров «Молодой Польши» — братьев Адольфа и Леона Залеских и Шимона Конарского.
По прибытии в Краков Ш. Конарский достаточно быстро сумел преодолеть обнаружившиеся идеологические разногласия с прежним руководством номинально уже оформившейся структуры СПН и сделался автором ее устава, в который заложил принципы, удовлетворившие всех участников этой организации. Устав включал в себя свыше 70 статей и исходил из аналогичного же документа «Молодой Польши». Главное его кредо нашло выражение в шести постулатах (забегая вперед, заметим, что как раз эти положения оказались и в основе программы отделений СПН, создававшихся позднее Конарским на землях бывшей Речи Посполитой в составе Российской империи), которые призывали: 1) сохранить национальность, 2) пробудить дух самоотверженности, 3) распространять просвещение, 4) исправлять нравы, 5) готовить аграрное население в качестве будущих защитников отечества и праведных граждан, 6) опровергать ложные мнения. В качестве цели устав определял «не только отвоевание Польши из-под чужого насилия, но кроме того омоложение... нации», результатом которого должно было стать всеобщее равенство. Эта задача объявлялась обязанностью и призванием не только отдельных людей, но и всего народа. В данной связи подчеркивалось, что подобное призвание человека и народа находится в неразрывном единстве с призванием всего человечества, ибо «люди всех стран являются между собой братьями... рассматриваемые как семья великого единого братства должны оказывать взаимную помощь в обретении и защите общей свободы. Человек, семья, каста, народ, наконец, желающий угнетать другой народ, становится врагом всех народов, то есть всего человеческого сообщества и как таковой союзными народами должен быть рассматриваем и преследуем»4. Таким образом, квинтэссенция цели, выдвигавшейся СПН, заключалась в воссоздании целостной независимой Польши, в государственном устройстве которой полностью ликвидировались бы феодальные устои в пользу принципов всевластия народа. Отсюда и происходит название этой организации.
Ш. Конарский, начав свою эмиссарскую деятельность в Кракове, затем нелегально перебрался на территорию западных губерний Российской империи. Именно здесь, в регионах Украины, Белоруссии и Литвы, его конспиративная деятельность достигла апогея. Указанный регион благодаря неукротимым энергии и решительности Конарского в относительно короткое время оказался покрыт сетью тайных ячеек Содружества. Здесь же необходимо заметить, что первоосновой создававшихся отделений организации Конарского на Украине (преимущественно на Волыни) послужила несколько ранее возникшая там структура так называемого Филодемического общества, руководимого незаурядным деятелем местной либерально-патриотической польской шляхты Каспером Машковским. Имя его еще встретится читателю на страницах воспоминаний Ручиньского. Подобно едва ли не большинству упоминаемых в мемуарах его сотоварищей-конарщиков (в дальнейшем, как и он, оказавшихся в сибирской ссылке), он и сам вошел в СПН через организацию Машковского. В связи со сказанным приходится несколько подробнее остановиться на характеристике таковой.
Филодемическое общество складывалось из средней и мелкой польской шляхты волынского региона Украины. Читающему эти строки следует напомнить, что речь идет о территориях, всего лишь за 30 лет до этого перешедших из польсколитовской государственности под российское управление, где польское господствующее сословие сохраняло сильные идейные позиции и соответствующую традиционную национально-государственную ментальность. Актив общества был представлен плеядой польской шляхетской интеллигенции, людей в большинстве своем молодых (в среднем их возраст был около 30 лет), обладавших прекрасным образованием и очевидной незаурядностью. Все они практически являли собою яркие индивидуальности, и это стало весьма наглядно уже в период их ссылки в Сибирь.
Взгляды участников этой организации были, в сущности, достаточно радикальны, хотя ряд из них, включая и самого Машковского, довольно резко отзывался о демократии в том виде, в каком она им представлялась. При этом их программа носила сентиментально-моралистскую окраску, взывала к шляхте «сблизиться сердцем и умом с униженной, но в действительности самой достойной уважения и многочисленной частью польского народа» — крестьянством. Среди прочего в программе предлагалось: «удачно нацеленной на понимание крестьянина беседой создать у него убеждения, какими сами проникнуты; доказать ему словом и делом, что видим в нем равного нам человека, брата, сына будущей отчизны, что стремимся к общему и высшему счастью на земле, к общей для всех нас свободе». «Убедим же его, — говорилось там, — что мы предали вечному забвению и отвращению предрассудки, которые клеймили земледельца позорной печатью неволи... что, признавая в этом несправедливость, отрекаемся от нее и хотим ее ликвидировать и что только теперешнее правительство составляет препятствие нашему стремлению»5. Нельзя не признать, что сами по себе все перечисленные обращения к господствующему польскому сословию, хотя и утопичные на практике, несли в себе позитивный идейный заряд.
Появление Ш. Конарского на Волыни и его стремление создать там отделение СПН на базе Филодемического общества не означало автоматического присоединения последнего к СПН. В идеологиях обеих названных организаций имелись определенные различия, а тактика «осторожных действий», характерная для общества Машковского, естественно, обнаруживалась в неприятии и резкой критике им «чрезмерного, безрассудного» (по меркам его участников) радикализма и энтузиазма Конарского6. Ради достижения поставленной цели Конарскому пришлось пойти на компромисс, сочетая в выработанной совместной программе позиции обеих сторон. Приводившиеся уже постулаты Филодемического общества были в ней дополнены рядом иных требований, также признанных руководством общества и для тогдашней расчлененной Польши весьма актуальных: республиканское государственное устройство в будущем, расчет на собственные национальные силы, а не на чужеземные правительства, отказ от ориентации лишь на элитарные магнатские слои общества. Прежнее название общества было сменено на СПН, а несколько позднее было утверждено и изменение прежнего его лозунга «Вера, Надежда, Любовь» на «Свобода, Равенство, Братство».
Ради достижения поставленной цели Конарскому пришлось пойти на компромисс, сочетая в выработанной совместной программе позиции обеих сторон. Приводившиеся уже постулаты Филодемического общества были в ней дополнены рядом иных требований, также признанных руководством общества и для тогдашней расчлененной Польши весьма актуальных: республиканское государственное устройство в будущем, расчет на собственные национальные силы, а не на чужеземные правительства, отказ от ориентации лишь на элитарные магнатские слои общества. Прежнее название общества было сменено на СПН, а несколько позднее было утверждено и изменение прежнего его лозунга «Вера, Надежда, Любовь» на «Свобода, Равенство, Братство».
Краткое знакомство с общественно-политической средой, в которой происходила деятельность нашего мемуариста, в конце концов приведшая его в сибирскую ссылку, безусловно предполагает и взаимосвязанное с этим конкретное представление о самой его личности. Сразу же заметим, что персоналия Ю. Ручиньского изучена далеко не исчерпывающе даже в польской специальной литературе, в связи с чем в целом ряде аспектов его биографии обнаруживаются белые пятна. Собственно, лишь в самые последние годы, благодаря двум работам известного польского историка, профессора Викторьи Сьливовской, отчасти дополненным рядом иных публикаций, в том числе и отечественных авторов, было положено начало специальному изучению этой темы7. Ниже мы попытаемся представить аналитичный синтез основных материалов о Юстыньяне Ручиньском, первый по указанной теме в существующих на русском языке изданиях.
Будущий ссыльный конарщик родился в 1810 г. на Волыни в семье польского шляхтича-землевладельца. Первоначальное образование он получил дома, а затем учился в знаменитом лицее г. Кременца, широко известном в пору его юности как образцовое учебное заведение и обеспечивавшем весьма высокий уровень обучения целому поколению польской молодежи — как шляхетского происхождения, так и выходцам из других социальных слоев8. Завершить там образование Ручиньскому не довелось. Он был «вызван домой для ухода за больной матерью», а затем занялся хозяйственной деятельностью в деревне, порученной ему отцом9. Сказанное отнюдь не следует понимать таким образом, будто бы Ручиньский остался недоучкой.Об обратном свидетельствуют и последующая его деятельность (в частности, издатели его воспоминаний рассказывают, что он перебрался в Житомир «для административно-правовой практики, которая тогда, наравне с сельским хозяйством, входила в состав обычных занятий шляхты»10), и оставленные им мемуары.
Наконец, сохранилась весьма красноречивая оценка, данная Ю. Ручиньскому его современником Николаем Мамаевым — русским офицером, волею обстоятельств познакомившимся с ним в пору пребывания в Житомире на службе в должности адъютанта волынского губернатора и по той же причине соприкоснувшимся с процессом следствия и суда по делу организации Конарского. Человек этот, среди прочего обладавший (в данном случае важно специально подчеркнуть это) прекрасной университетской подготовкой, много лет спустя в своих воспоминаниях характеризовал нашего мемуариста как «молодого человека светлого, блестящего ума, милого, любезного, прекрасно образованного, отличного музыканта, страстного в душе; личность самую симпатичную». Сходство возраста (разница всего в два года), «одинаковая жажда познаний, моя квартира в доме его тестя, все это сблизило нас, — указывает Н. Мамаев, — а превосходство его воспитания, его начитанность, многосторонность сведений вынуждали меня искать и дорожить его обществом11.
В то же время, по словам издателей воспоминаний Ручиньского, мемуарист сохранил «горькое воспоминание о домашнем и школьном обучении. Сетовал на то, что не было оно приспособлено ни к возрасту, ни к развитию ребенка, и потому чрезмерно перегружало его ум, а также страдало излишней энциклопедичностью, не дающей никакой специальности, которая позволила бы в дальнейшей жизни осуществлять какое-либо занятие с удовлетворяющим сознанием досконального владения этим предметом». «Может быть, так и было, — отмечают далее издатели, — однако Ручинский не менее определенно признавал, что то гражданское чувство, та чуткость к общественным потребностям, недостаткам и нуждам, которые его не оставили до смерти, имели свой исток в той духовной атмосфере, которая окружала кременецкую молодежь под здоровым веянием ученого, гражданина, куратора школ Чацкого и граждан профессуры»12.
В последующей биографической канве Ю. Ручиньского обнаруживаются существенные пробелы, на которые уже обратили внимание специалисты. Так, профессор В. Сьливовская прямо указывает, что имя нашего мемуариста, с одной стороны, отмечается практически всеми авторами работ, посвященных Ш. Конарскому, но с другой — никому из них не удалось точно установить его роль в этой конспирации. Поиски В. Сьливовской в архивах (в том числе в оригинальных документах следствия, проводившегося в Киеве по делу организации СПН) позволили лишь установить, что Ручиньский, по собственным его показаниям, лично познакомился с Ш. Конарским, принял его у себя в доме и получил от него программу СПН, ознакомившись с которой вступил в эту конспиративную организацию. Кроме того, он активно содействовал вербовке новых членов в СПН, а также посредничал в тайной доставке из-за границы запрещенных изданий. В результате исследовательница биографии этого конарщика приходит к однозначному заключению, что он «не выполнял в тайной организации никаких функций»13. Однако все отмеченное не помешало властям предержащим усмотреть в Ручиньском одну из ключевых фигур в руководящем составе конарщиков. Уже упомянутый выше царский офицер Мамаев писал в своих воспоминаниях, что Ручиньский был «одним из самых деятельных членов общества Конарского, даже чем-то в роде секретаря»14.
В СПН Ручиньский оказался вовлечен через среду Филодемического общества, с которым находился в контакте несколько ранее, примерно с 1835 г. Характерное и достаточно примечательное описание дается по этому поводу издателями его воспоминаний. Среди прочего сообщается, что оказавшийся в собственной деревне Юстыньян, наряду с хозяйственными заботами, вел «обычную в ту пору для молодого шляхтича легкую, веселую, светскую жизнь. Хотя ум его впоследствии посерьезнел, а условия жизни совершенно изменились, сохранил он до глубокой старости черты, характеризующие тогдашнего сельского шляхтича, веселость и остроумие, приветливость, охоту к проказам».
Серьезнейший «переворот в сознании и стремлениях будущего мемуариста произошел с момента, когда он вступил в союз молодежи... который останется в истории под названием союза Конарского, хотя эмиграционный эмиссар Шимон Конарский столкнулся с союзом уже существующим и разветвленным по целому краю и только придал ему более революционные черты, направил его на путь более подвижный, а будучи выслеживаем правительством и в конце концов схвачен, сделался невольной и невинной причиной открытия всего союза и вылавливания его участников. Судьба эта встретила Ручиньского уже в Житомире...»15.
4 мая 1838 г. Юстыньян Ручиньский женился на дочери адвоката Игнацы Миллера, Луцье. Эту молодую женщину (в момент вступления в брак ей было 20 лет), которая сыграла огромную роль в последующей жизни мемуариста, отличали замечательные черты характера: большая твердость духа, энергичность и предприимчивость. Одарена она была и многими талантами: прекрасно писала, играла на рояле, рисовала. Из перечисленных ее дарований особенно выделялось музыкальное, определившее профессиональную карьеру Л. Ручиньской как незаурядной пианистки, композитора и музыкального педагога16.
По истечении немногим более четырех месяцев после женитьбы Ю. Ручиньский оказался арестован (22 сентября 1838 г.) и препровожден для следствия в Киевскую крепость. С этого начались долгие перипетии, приведшие его в сибирское изгнание. Как известно, последним Ручиньскому, подобно большинству его сотоварищей-конарщиков, был заменен первоначальный приговор — смертная казнь. Все последующее описано в мемуарах с той или иной степенью подробности, и мы не станем пересказывать непосредственное их содержание. Отметим лишь, что во многом участь нашего ссыльного конарщика-мемуариста сложилась относительно сносно и к нему в достаточно обозримые сроки был применен целый ряд поэтапных смягчений того осуждения на 20 лет каторжных работ, что было вынесено в начале ссылки. Это стало возможным благодаря неустанной самоотверженной борьбе его жены с влиятельным чиновным аппаратом за спасение близкого человека (видимо, под ее влиянием в этот процесс включались и высокие связи более широкого родственного окружения). В этом неравном состязании приходилось мириться с безнравственностью и корыстолюбием власть имущих. Особенно откровенным взяточничеством за послабления политссыльным отличился клеврет всесильного генерал-губернатора Д. Г. Бибикова И. Писарев, которому Л. Ручиньская была вынуждена заплатить за облегчение участи своего супруга, о чем последний прямо свидетельствует сам.
По выражению В. Сьливовской, знакомившейся с сохранившимися документальными архивными свидетельствами непрекращавшихся ходатайств Луцьи Ручиньской за мужа перед властями, она «сумела сдвинуть небо и землю, чтобы облегчить долю мужа»17, а затем и сама соединилась с ним на границе Сибири и Урала — в уездном городке Тобольской губернии Туринске. Ю. Ручиньский в мемуарах неоднократно касается как данного, так и других обстоятельств, связанных с его женой. При этом нельзя не заметить, что наряду с отдельными выразительно описанными мемуаристом эпизодами жизни в Туринске после прибытия туда его жены иные факты упомянуты им совершенно скупо. К числу последних относится, например, проблема трудного материального положения Ручиньских в туринский период ссылки (как выясняется, значительную лепту в разрешение такового вносила Л. Ручиньская своим преподавательским трудом), явно скудные данные о которой в рассматриваемых мемуарах могут быть существенно дополнены по другим выявленным документальным источникам18.
Таким образом, перед читателем разворачивается еще один историко-тематический фрагмент, как бы органически продолжающий (вслед за трагичной фигурой Альбины Мигурской), но уже на примере женской натуры абсолютно иного склада, историю судеб жен польских политических ссыльных в Сибири. Эта история, в свою очередь, естественно перекликается с эпопеей их декабристских предшественниц. Однако в отличие от последней она в отечественной исторической литературе вплоть до настоящего времени почти не освещена и соответственно воспринимается широкой российской читательской общественностью как совершенно от нее обособленная тема из эпохи сибирской политссылки поляков первой половины XIX в., словно бы и не имевшая никаких примечательных фактических сибирско-польских параллелей того же самого периода. Между тем мемуарист на страницах своей книги не единожды сообщает о декабристах в сибирской ссылке: со многими ему довелось непосредственно встречаться, знакомиться и общаться; с некоторыми же у супругов Ручиньских завязалась настоящая многолетняя дружба.
Переходя далее к собственно характеристике самих воспоминаний Ю. Ручиньского, необходимо сразу же подчеркнуть, что этот неординарный исторический источник не ограничивается уже отмеченными тематическими направлениями. В действительности его содержание значительно шире и разнообразнее. Читатель найдет в нем и конкретные данные о том, как в конце 30-х гг. XIX в. осуществлялось этапирование политических ссыльных поляков, и уникальное описание уклада их жизни во время отбывания каторги в Забайкалье, на Нерчинских заводах (включая изложение устава так называемого Огула (Сообщества) польских политссыльных, разработанного в подневольных условиях и содержащего неукоснительные правила поведения в организованной ими совместной коммуне)19, и примеры повседневных взаимоотношений поляков с сибиряками, вклада первых в местное просвещение, культуру, хозяйство и многое другое.
В современной польской исследовательской литературе воспоминания Ю. Ручиньского уже оказались определены как «архиинтересный документ эпохи, представляющий сегодня большую библиографическую редкость (и это говорится даже в самой Польше! — Б. Ш.), заслуживающий старательно подготовленного переиздания»20. Едва ли следует дополнять приведенную цитату какими-то специальными аргументами, чтобы подтвердить «архинеобходимость» и важность введения данного мемуарного документа в научно-культурный обиход сибирского региона и России в целом. Настоящее издание как раз и призвано сделать это21.
Перед тем как читатель сможет обратиться к непосредственному знакомству с воспоминаниями Ю. Ручиньского, задержим его внимание на ряде моментов, относящихся к источниковедческому анализу публикуемого текста. Ведь и для широкого читателя, интересующегося историей, совсем не безразлично, насколько можно доверять представленному в книге мемуарному материалу, что в нем вполне достоверно, а что следует воспринимать критически. На эти общие вопросы в значительной мере должны помочь ответить наши пояснения к отдельным местам мемуарного текста (см. комментарий к последнему). Однако необходимо сделать и несколько замечаний в целом по поводу публикуемых ниже воспоминаний.
Мемуары Юстыньяна Ручиньского по своему характеру относятся к отчетливому типу ретроспективных источников. Они писались автором на склоне лет, по прошествии 40 лет от начала того периода его жизни, о котором ведется рассказ в книге. Сравнительно точную хронологию создания мемуаров позволяет определить дата, проставленная в их конце: «18 декабря 1878 г.». По всей вероятности, эта дата должна указывать на конкретный момент завершения работы мемуариста над всей книгой, но можно лишь догадываться, сколько всего времени она писалась.
В оригинальном заглавии мемуарной книги Ручиньского также присутствует элемент хронологической условности. Обозначенные в нем даты «1838–1878» не вполне соответствуют конкретной периодизации содержания воспоминаний, где наибольшее внимание уделено времени пребывания автора в сибирской ссылке, а затем — ссылке и поселению в европейской части России. Важно в данном случае принять во внимание, что последний пункт принудительного жительства в России, Калугу, Ручиньский покинул в конце 1853 г. На все последующие жизненные перипетии Ручиньским отведено в тексте мемуаров менее трех страниц. В сущности, это уже не воспоминания, а скорее краткая ретроспективная справка о некоторых фактах из позднейшего раздела биографий самого мемуариста и некоторых близких ему лиц. Автору этого предисловия представляется вполне возможным предположить, что 1878 г. совершенно не случайно указан как время создания рассматриваемых воспоминаний. Тем самым конарщик Ю. Ручиньский своеобразно отметил памятное ему 40-летие расправы с организацией СПН, положившей начало ссылке товарищей и собственной его одиссее ссыльного, вместившей около десятка лет, проведенных в различных частях Сибири и Приуралья, а затем и последующее пятилетнее пребывание на поселении в России.
Как и любому типичному мемуарному источнику, воспоминаниям Ю. Ручиньского объективно не могут не быть присущи некоторые слабые стороны: пробелы и недостаточная точность фактических данных, забытых за давностью лет либо же искаженных под воздействием каких-то внешних факторов. Это общие негативные аспекты, достаточно характерные для подобного типа ретроспективных исторических источников. Однако в пользу того, что воспоминания Ручиньского если и грешат такого рода недочетами, то в самой минимальной степени, говорит целый ряд убедительных доводов.
Во-первых, легко удостовериться, что в самых разнообразных сообщаемых в воспоминаниях сведениях (из числа поддающихся проверке) память в целом почти не подводит автора, который в момент написания был уже пожилым (67 лет) человеком, но еще не глубоким старцем.
Во-вторых, сам мемуарист засвидетельствовал, что в отдельных своих конкретных описаниях он опирался на сохраненные им письма жены, по которым последовательно сверял необходимые подробности22. В связи с этим вторым обстоятельством следует заметить, что автору настоящего предисловия посчастливилось обнаружить в рукописном собрании Польской библиотеки в Париже оригиналы двух писем супругов Ручиньских периода пребывания их в изгнании в Туринске23. К конкретному содержанию этих эпистолярных источников мы еще вернемся в ходе непосредственного комментирования текста воспоминаний Ю. Ручиньского. Сама же по себе указанная находка позволяет предположить, что мемуарное наследие этой семьи, вполне вероятно, в дальнейшем будет пополнено и другими сохранившимися его источниковыми составляющими. Тем самым в распоряжении будущих исследователей может постепенно оказаться весьма достоверная документальная основа для анализа этих воспоминаний.
В-третьих, польские издатели воспоминаний Ручиньского в своем предисловии к ним, представляя читателю мемуариста, к тому времени уже покойного, сообщали, в частности, о его «записной книжке, в которую он заносил как впечатления текущего времени, так и памятные свидетельства прошлого»24. Следовательно, автор воспоминаний писал их не только «из головы», в его распоряжении имелись также и какие-то ранее произведенные записи. (Их дальнейшая судьба нам в настоящий момент, к сожалению, неизвестна).
В-четвертых, мы располагаем еще одним принципиально важным для раскрытия данной темы высказыванием самого Юстыньяна Ручиньского, наглядно демонстрирующим, что он обладал хорошо осознанным, вполне зрелым собственным взглядом как на общественную значимость мемуаров, так и на необходимые требования, предъявляемые к их автору. Эти воззрения были высказаны им уже после их завершения — в переписке со своими товарищами по сибирской ссылке (имена их читатель неоднократно еще встретит в тексте воспоминаний Ручиньского вместе с нашими комментариями) — Хенрыком Голеевским и Каспером Машковским. Первому из них, работавшему в то время над собственными записками, он заявил: «Я был уверен, что ты заглядываешь в прошлое, что пишешь свои воспоминания. Бог тебе в помощь, ибо такая работа благодарна и полезна». И здесь же он сообщал о выраженном в письме К. Машковскому своем отношении к его полемичным замечаниям, касавшимся мемуарного творчества X. Голеевского. «Написал я Касперу следующим образом: "Не могу понять, почему ты называешь ошибками цитируемые отрывки из писания Хенрыка. Ошибками в воспоминаниях являются вымысел или фальсификация фактов, что обычно совершает пишущий по слухам. Нельзя называть ошибкой суждение кого-либо о делах и людях. Суждение является правом каждого — проистекает оно из убеждения и личных взглядов, и, по той Божьей воле, что ни человек — то собственное мнение, что ни голова — то свой ум. Можно суждению одного противопоставить суждение другого, либо не убедить или не понять другого, либо остаться при своем. В каждом из таких случаев ни одна, ни другая сторона не совершает ошибок, а спорный вопрос отдается на суд общественный. Так бывает всегда, так и между тобою и Хенрыком. ...И это вовсе не будет ошибкой, поскольку и его, и твой суд могут быть несправедливы. Окончательно это рассудят те, кто когда-нибудь будет читать ваши писания"»25.
Наконец, уже в-пятых, те же составители предисловия к мемуарам Ручиньского подчеркнули «простоту этих воспоминаний, доходящую, может, даже до чрезмерности, под воздействием опасения хотя бы в наименьшей степени разойтись с правдой, которое склонило автора к написанию только того, что он сам изведал и на что глядел собственными глазами. Если вследствие этого воспоминания проигрывают в красочности и не хватает им многих подробностей, очень интересных для широкой общественности, то настолько же они выигрывают в достоверности, и изучение их, подобно общению с упомянутыми в них людьми при их жизни, должно дополнительно воздействовать на младшее поколение»26.
Действительно, можно во многом согласиться с высказыванием издателей воспоминаний Ю. Ручиньского. Мемуары написаны ясным и доходчивым языком, глубоко логичны и лишены каких-либо нарочитых прикрас. Сказанное, однако, вовсе не означает, что они совершенно безукоризненны в своей откровенности. Нельзя не заметить в них и достаточно очевидные недомолвки.
Характеризуя рассматриваемые мемуары, автор предисловия к ним считает необходимым указать также и на свойственные Ручиньскому зоркость наблюдений вместе с умением отбирать в них наиболее существенное и типичное. Примеры подобного рода (в частности, описание мемуаристом «старого ветерана» — туринского почтмейстера27 вызывают невольные ассоциации с хрестоматийными персонажами из классических произведений великих мастеров русской литературы — Н. В. Гоголя или Н. С. Лескова.
За всеми отмеченными чертами воспоминаний Ю. Ручиньского хорошо прослеживается вызывающая к себе бесспорную симпатию фигура их автора — человека высокой культуры и ума, оценивающего происходившее вокруг него верно, глубоко и тонко, нередко с мягкой иронией, но при этом сохраняющего искренность и подкупающую простоту во всех своих проявлениях. Иначе говоря, мемуарный источник его авторства позволяет нам через временные границы соприкоснуться с подлинным в полном смысле этого слова интеллигентом своей эпохи, повествующим о пережитом в сибирском изгнании.
В настоящем предисловии говорилось уже о том, что вокруг персоналии самого нашего мемуариста остаются до сих пор белые пятна. В частности, это упоминавшаяся неясность н отношении конкретных функций, которые исполнял Ю. Ручиньский в организации Ш. Конарского. По этому поводу рассматриваемые мемуары хранят полное молчание, что совершенно невозможно объяснить желанием автора не отступать от правды им пережитого. И то, что период по возвращении из ссылки почти обойден в данном повествовании, также отмечалось уже нами. Наиболее же интригует наблюдение, которым первой поделилась в своей работе В. Сьливовская. Она отметила, что период ссылки в Сибирь, а тем более калужского поселения мемуарист изложил далеко не во всех подробностях и со значительными пробелами. Причиной же этого она сочла нежелание Ручиньского даже через четверть века после ссылки «возвращаться памятью» к отдельным эпизодам, «особенно если речь идет о раскрытии нелегальных начинаний, которые продолжались подобным способом следующими поколениями польских сибиряков»28. Все эти и им подобные специфические особенности рассматриваемых мемуаров нужно также принимать во внимание при последующем знакомстве с ними.
Небезынтересным для читателя воспоминаний Ю. Ручиньского должно стать знакомство с обстоятельствами осуществления их польского издания. Они были опубликованы три года спустя после смерти самого мемуариста, во Львове, в 1895 г., и с тех пор в полном виде никогда не переиздавались. Издатели и авторы предисловия, их предваряющего, не сообщили что-либо о себе хотя бы иносказательно. Их имена — Леон Сырочиньский и Станислав Рошковский — оказались раскрыты и обнародованы все тем же польским историком-исследователем, биографом Юстыньяна Ручиньского В. Сьливовской29.
Благодаря сведениям, любезно сообщенным автору данного вступительного раздела профессором Викторьей Сьливовской, у него теперь есть возможность познакомить читателя с некоторыми биографическими данными обоих польских публикаторов мемуаров Ручиньского. С. Рошковский являлся сыном близкого товарища мемуариста, конарщика Адольфа Рошковского и последовавшей за ним в Сибирь супруги Антонилли. Он был уроженцем Иркутска, где появился на свет в 1844 г. Ко времени опубликования воспоминаний Ручиньского сам С. Рошковский уже отбыл ссылку в Енисейской губернии как повстанец 1863 г. Деятелем группировки «красных» в том же польском Январском восстании 1863 г. был и Л. Сырочиньский, впоследствии ставший горным инженером, профессором и ректором Львовского политехнического института, избиравшийся председателем Общества ветеранов 1863 г.
Судя по приведенным фрагментам биографий обоих названных лиц, есть основания предположить, что они далеко не случайно занялись изданием воспоминаний Ручиньского. Столь же очевидно, что специальное, прямо направленное изучение их деятельности помогло бы разрешить еще не одну проблему, связанную с рассматриваемыми нами мемуарами.
В частности, это послужило бы ключом к выяснению, как велась подготовка ко львовскому изданию оригинального авторского текста воспоминаний и насколько при этом он подвергался редакционной правке и изменениям. В свою очередь, это позволило бы внести коррективы во встречающиеся разночтения в мемуарах при окончательной современной научной обработке таковых.
Как и в иных публикуемых текстах этой книги, при подготовке перевода воспоминаний Ю. Ручиньского соблюдалось по возможности единообразие написания терминов и названий, а все особые случаи в этом отношении специально оговорены в комментарии. Орфография написания польских имей и фамилий принята публикатором в наиболее современной форме, то есть максимально приближена к польскому произношению и направлена на передачу его специфики средствами русской фонетики. Тем самым заменяются до сих пор еще традиционно широко распространенные, но устаревшие по своей сути и во многом русифицированные формы.
Б. С. Шостакович.
Юстыньян РУЧИНЬСКИЙ
КОНАРЩИК
1838–1878
Воспоминания о сибирской ссылке
KONARSZCZYK.
1838–1878
PAMIETNIKl ZEStANIA NA SYBIR
JUSTYNIANA RUCfflSKIEGO.
Пер. с польского Л. К. Фридман и Б. С. Шостаковича
В мае 1838 года в Житомире проходил съезд жителей со всей Волынской губернии. Собравшаяся шляхта выбирала из среды своей уездных и губернских чиновников. Во время выборов распространилось тревожное известие о поимке и взятии в Вильно под стражу эмиссара Конарского. Вскоре и по всей стране начались многочисленные аресты. Злополучная очередь дошли до меня. Меня арестовали утром 21 сентября, а вечером 22 сентября я уже был заключен в Киевскую крепость, наряду с большим числом узников, арестованных ранее. Удар этот свалился на меня спустя четыре с половиной месяца после свадьбы, так как я женился 4 мая того же 1838 года30.
Жена моя Луцья, урожденная Миллер31, вскоре приехала в Киев и заботилась обо мне в течение всего времени пребывания моего в тюрьме, которое длилось почти полгода. Виделся я с ней редко и непродолжительно, таковы были правила. В средине февраля 1839 года приговором военного суда я был осужден на смертную казнь. Приговор этот при высочайшем утверждении заменен был на 20 лет каторжных работ в Сибири. Приговоры оглашали узникам в момент высылки их в изгнание.
Семьи долго не знали о вынесенных приговорах. Лишь спустя время прекратили молчание и сказали правду.
Весть, что вывозят арестантов, распространилась по Киеву за несколько дней до того. Власти не опровергали известие и даже разрешили женам видеться с мужьями и попрощаться окончательно. Позволили также приготовить каждому небольшой дорожный сверток. В последний раз увиделся я и простился со своей женой 23 февраля 1839 года. Не зная, что будет со мной, я обещал написать письмо, в котором, если будет написано один раз «будь здорова», значит, меня сослали в великоросские губернии, если же два раза «будь здорова», то это будет означать, что я осужден в солдаты. Ведь воображение наше не простиралось дальше этого, и солдатчина, по всеобщему убеждению, считалась самым тяжелым наказанием. Тем временем 24 февраля вечером зашел в мою тюрьму плац-адъютант Афанасьев, сделал описание моей внешности, спросил о моем возрасте, чему и где я учился, что умею, затем просмотрел приготовленный узелок, переписал находящиеся в нем вещи, объявил, что они конфискуются в пользу государства, но при этом попросил, чтобы я подарил ему серебряные ложку и ложечку, которые нашел в узелке; а разглядев на руке моей золотое обручальное кольцо, протянул руку к нему, говоря ласково: «Поедете в Сибирь, где все это не нужно, а мне пригодится». Но насколько охотно, а вернее, бессознательно отдал я ему ложки, настолько решительно не отдал кольцо, сказав, что разве обрежет его с пальцем. Тогда он перестал настаивать, опустил ложки в глубокий карман и, согласовав таким образом служебную обязанность с личной пользой, вышел, чтобы, по-видимому, проделать то же самое в других тюремных камерах.
Организм мой имеет то странное свойство, что я полностью теряю сон, когда обеспокоен; но когда огорчен или сильно угнетен, сплю мертвым сном. В таком сне прошла у меня эта роковая ночь, последняя на родине. Проснулся я довольно поздно. Кто раз в жизни испытал подобное пробуждение, тот знает, что такое несчастье.
Я еще не знал, какая судьба меня ждет. Знал только, что буду в Сибири. Каким образом подготовить бедняжку жену к этому неожиданному удару? Написал к ней прощальное письмо и закончил его троекратным повторением «будь здорова», чтобы дать ей понять, что степень наказания выше, тяжелее, нежели солдатчина. Тюремный страж, благосклонный благодаря двузлотовому, взялся отнести это письмо, к выполнению своего обещания побуждаемый уверенностью, что получит еще вдвое от моей жены. Едва это произошло, как снова явился Афанасьев и забрал меня, вернее, отвез в другую тюрьму, в так называемые Московские ворота. Лишь там зачитал мне приговор. Тут же немедленно явились жандармы и кузнец. Меня заковали в полупудовые (8 килограммов) кандалы, усадили в кибитку между двумя жандармами и повезли в незнаемые, неизмеримые просторы. Было это 25 февраля 1839 года.
На третий день сумасшедшей быстрой езды, где-то уже в Великороссии, впервые потекли у меня слезы и возвратилась трезвость рассудка. Наступили трескучие морозы. Плохо одетый, я бы замерз насмерть, если б жандармы не укрывали меня своими тулупами. Притом ощущал я тяжелый внутренний разлад, по-видимому, вследствие внезапного движения после длительного, в неподвижности, пребывания в тюрьме.
Снега были глубокие, выбоины, как волны, вдоль всего тракта, глубокие и непрестанные. Помню, из Орла вывезли меня ночью, на протяжении одной станции сани опрокидывались более десятка раз. Вылетали жандармы, вываливался я, как мяч. Меня, беспомощно из-за массивных оков лежащего на снегу, стражи мои поднимали и усаживали в сани до следующего опрокидывания. Измученные жандармы, добравшись до станции, поневоле дали мне отдохнуть, дожидаясь рассвета. Молодые в то время силы все это вынесли. Провидение везде и всюду нас опекало. Везли меня все дальше и дальше. В некоторых городах, в Москве, в Казани, в Перми, сменяли жандармов. Меня заключали в тюрьму, пока не заканчивались формальности. Я постоянно был один. Только лишь недалеко от Тобольска нагнал я на станции Адольфа Рошковского и узнал, что он — полностью мой товарищ. Наконец после трехнедельного путешествия въехал я в Тобольск. Жандармы остановились перед домом губернатора. Был им в то время некий Талызин32. Обошелся он со мной по-человечески, объявил мне, что в Тобольске уже находятся многочисленные мои товарищи, что всех увижу в тюрьме. Было это первым утешеньем в несчастии, подобно первому солнцу, что светит не грея.
Торопливо направился я в Тобольскую тюрьму, довольно далеко расположенную от города. Отворились двери просторной грязной избы, и я увидел сразу несколько десятков изгнанников, усталых, измученных до неузнаваемости. Ведь путешествие из Киева до Тобольска длится 20 дней. Никто из нас не отдыхал и не только белье не менял, но, закованный в кандалы, не снимал обуви. Лишь два дня спустя освободили ноги наши от тяжелого киевского железа и надели оковы легкие, приспособленные для последующего пешего странствия, которое нам предстояло.
Помню ли я спустя 38 лет всех скопившихся там? Были с Волыни: два брата Яжыны — старший Нарцыз, ксендз Локацкого прихода, младший — Леопольд, красивый, милый и способный молодой человек, год назад женившийся на красавице панне Анеле Пшигодской. Оба умерли от чахотки: Леопольд — в 1850 году в Воронеже, Нарцыза я проводил на житомирское кладбище в 1859 году. Маурыцы Кисель, старый ветеран, третий раз находившийся в неволе, ибо был в Москве с Наполеоном и участвовал в войне 1830 года, умер в Варшаве в 1872 году. Тэофиль Чапский, хромой, хороший поэт, жил в Ворончине, при генерале Крупиньском.
Фортунат Грабовский, мой сосед и друг с молодых лет, в настоящее время свояк, поскольку по возвращении на родину женился на сестре моей жены, овдовевшей Юлии, они до сих пор живут на Подолии в Лятычёве. Все они и я — из Владимирского уезда. Филипп и Кароль Олизары, Валеры Жонжевский, Петр Цырына, Вацлав Ожешко из Луцкого уезда. Вольфганг Щепковский, известный скрипач из Дубенского уезда, Адольф Рошковский, год назад женившийся на Антонилле Фафиус, прелестной женщине, отец сосунка Вандзи. Марьян Подхородэньский, немолодой и болезненный, бывший судья Староконстантиновского уезда. Леопольд Немировский, способный, талантливый, достойный молодой человек. До сих пор живет в Ковельском уезде, где жили его родители. Валеры Коссаковский, зажиточный владелец поместья — умер недавно в Вене.
Из Подолии были: Йоахим Лесьневич, бывший штабной офицер польской армии, способный инженер; Яцек Голыньский, богатый владелец поместья; Юльян Сабиньский, выдающийся лингвист, очень разумный и приятный товарищ, умер в Чернигове, кажется, в 1865 году; Людвик Янишевский, владелец поместья, старичок, седой как лунь, очень уважаемый — умер в Иркутске, не помню, в каком году; ксендз Кароль Хаас, профессор семинарии в Луцке, в настоящее время приходский священник в Смиле, в Киевской губернии. Ксендз каноник Зелиньский, протоиерей из Кулек, местечка в Луцком уезде; ксендз Тыбурцы Павловский, монах, умер недавно, будучи викарием при Иркутском костеле33.
Из Литвы были: Наполеон Новицкий, филарет, товарищ Зана и Мицкевича; Ежи Брынк, родной брат ксендза Людвика Брынка, бывшего протоиерея в Киеве, а затем викарного епископа в Житомире34. Появился, наконец, совершенно незнакомый нам всем Томаш Мрозовский из Гродненской губернии, молодой пригожий брюнет. Сидел в Варшавской цитадели. В конце концов, отправленный в Киев, вследствие связей с киевской университетской молодежью, был там осужден. Ловкий, энергичный, даже авантюрный хитрец. Был с нами в Нерчинских рудниках. Выйдя затем на поселение, бежал из Сибири, направил по ложному следу правительственных преследователей и сумел добраться до Франции. Что с ним случилось далее, не знаю35. Припоминаю себе еще двоих: Люцьяна Михальского из Подолии, Войчеха Уминьского из Волыни. Последний служил в 4-м уланском полку во времена князя Константина36.
Было в то время в Тобольске немало ссыльных от 1831 года37, но ни одному из них не позволили видеться с нами. Навещали нас в тюрьме чиновники поляки. Приходил Михал Кузьминский, некогда мой школьный товарищ в Кременце38, и Кожелло-Пахлевский, литвин39, впоследствии сделавший в Сибири большое состояние. Оба были в то время чиновниками для особых поручений при генерал-губернаторе Западной Сибири князе Горчакове40.
С исключительно трогательной благодарностью сохраняю в памяти образ дивизионного доктора и личного врача князя Горчакова Штубендорфа. Этот молодой человек из Дерптского университета, хоть и немец, оказывал нам благороднейшее сочувствие. Посещал нас почти ежедневно. Ежедневно присылал кофе или чай, щедро и хорошо приготовленные, с добавлением освященных изделий из теста, ибо в Тобольск попали мы на Пасхальные праздники. Каждому из нас дал полфунта почтовой бумаги и стальное перо, чтобы мы имели чем и на чем писать к семьям, если случится соответствующая возможность. Кроме того, взялся за организацию складчины, поскольку узнал, что все мы почти без гроша. Слышал я, что впоследствии дошел он до губернаторского поста41. Благослови Бог его и детей его, он заслужил это!
Существует порядок, по крайней мере был в то время, что нарушителей закона и преступников, прибывающих со всей России, отправляли из Тобольска вглубь Сибири раз в неделю в определенном количестве, называемом «партия». И нас также разделили на отряды и отправляли отрядами при партии. При этом был дан приказ, очень благоприятный для нас, чтобы нас с обычными арестантами не объединять, то есть чтобы в марше мы шли за партией, а на этапах размещались отдельно. Этапы — это казенные здания, совершенно одинаковые, расставленные вдоль главной дороги от Тобольска до Иркутска и до Нерчинских рудников. Каждая станция — это полуэтап, где партия ночует, а через каждые две станции стоит этап, где партия уже весь день отдыхает, и этот отдых называется «днёвка». У каждого этапа свой начальник, офицер с командой, состоящей из нескольких десятков инвалидов и десятка с лишним конных казаков. Эта вооруженная сила сопровождает арестантов от полуэтапа, где встречает и принимает партию в свой этап, и далее, после дневки, до следующего полуэтапа. Так вот, при одной такой партии выслали нас восьмерых: обоих братьев Яжынов, Леопольда Немировского, Валеры Коссаковского, Томаша Мрозовского, Фортуната Грабовского, Адольфа Рошковского и меня. Вышли мы из Тобольска 1 апреля 1839 года. Еще стояла зима. Арестантские пожитки везли на санях.
И здесь начался быт, которому трудно дать подходящее название, но еще труднее дать полное представление о нем. Казалось, уж большей нужды нет на свете. К ней приводили: ежедневный 18 —25-верстный переход в кандалах, ночлег в тюрьме на грязных досках, называемых «нары», нехватка белья, одежды и обуви, нищенская еда, а далее полный голод, слякоть, жара, морозы — и при этом надо было идти непременно дальше и дальше. Постоянное созерцание арестантов, их жизни, полной самого циничного распутства, обычно поощряемого подкупленным этапным командованием; полная оторванность от прошлого, необозримая сибирская пустыня, отсутствие каких-либо вестей об оставшихся женах и семьях и невозможность переслать им хотя бы слово, подать какой-либо признак жизни42, тяжкое изнурение тела физическим трудом, а души — беспокойствием и тоской — вот бледное изображение тогдашней горькой участи нашей.
Когда спустя много лет вспоминаю я то далекое прошлое, кажется мне иногда, что этого не было. А ведь было действительно и длилось 13 месяцев. И как-то пережилось все это. Молодость, достойные товарищи, спокойная совесть, а выше всего Провидение, явное и несомненное, поддерживали нас, сохранили и спасли.
Письмо от жены моей, которое сейчас лежит у меня перед глазами, а голос которой доносится из другой комнаты, написано было 3 апреля 1839 года, но получил я его лишь в декабре в Иркутске. В то время, когда она писала это письмо, я только что начал сибирское пешее странствие и был, по-видимому, на втором этапе за Тобольском .
Вспоминаются мне некоторые подробности перед выездом из Киева и из путешествия в Тобольск. Жена моя при прощании давала мне в дорогу несколько сот рублей ассигнациями. Будто ведомый предчувствием, я не хотел их взять и просил, чтобы эту сумму прислала позднее в предназначенное место. Взял я лишь два полуимпериала золотом и несколько рублей мелкими монетами. Деньги эти опустил в скрытый карман, который раньше делали под часы. Таким образом сохранились они при проверке моей особы. Более крупная сумма несомненно пропала бы.
Обдирали нас немилосердно, почему — я и до сих пор не знаю, ведь ни в Варшаве, ни даже в Вильно не допускали этой ненужной жесткости. Возможно, это было злоупотребление подчиненных и высшие власти об этом не знали. Одним словом, кроме одежды, которая была на мне, ничего решительно мне не оставили. Что же случилось с теми, кто нас судил и снарядил так безбожно?
Генерал-губернатор, впоследствии министр Бибиков кончил жизнь в немилости и в изгнании, ибо умер в Дрездене. Фаворит Бибикова, потрясавший тремя губерниями и бесстыдно их обиравший, Писарев, дошел было до губернаторства в Олонецке. На этом высоком посту получил публичную пощечину. Выгнанный со службы, обманутый своим мнимым другом, при посредничестве которого брал деньги за уменьшение наказания осужденным либо за обещание уменьшения этого наказания, умер где-то в России в презрении и нужде. Жена же его, известная красавица, бросила мужа и в результате распутной жизни погибла якобы в больнице. Другой член следственной комиссии, плац-майор Гайворонский, блеснул временно в качестве вице-губернатора. Вскоре был уволен со службы и исчез где-то в глубине Малороссии43. Плац-адъютант Афанасьев, что сдирал с нас последнее, дожил якобы век свой в Киеве. Был он наименее грешен, ибо не ведал, что творил. Это было двуногое создание, жирующее инстинктивно.
Следственная комиссия, в которой Писарев председательствовал как заместитель Бибикова, стала для него источником непомерных доходов. Судьба узников была отдана на откуп. Наказание измерялось не степенью вины, а количеством заплаченных денег. Кто мог дать и дал крупную сумму, был освобожден. Кто мог меньше, того высылали в ближние или более отдаленные губернии либо на несколько лет в солдаты. Кто не дал ничего, тот пошел на каторгу в Сибирь или, как университетская молодежь, в вечные солдаты на Кавказ. Вместе с нами арестован был Александр Будзиньский из Звенигородского уезда, молодой, красивый, состоятельный юноша, единственный сын у матери, урожденной Василевской. Озабоченная, достойная женщина решила спасти сына, невзирая на жертвы, хоть бы самой высокой ценой. Она первая купила освобождение своего единственного сына, кажется, за 18 000 рублей серебром. Взяв порядочный задаток и уверившись, что и остальное будет выплачено, Писарев приказал привести арестанта и наедине с ним произнес такую патетическую речь: «Слезам и просьбам вашей огорченной матери я не смог противостоять, ради нее преступаю свой долг, рассчитывая на ваше благоразумие. Вот доказательства, осуждающие вас, я их уничтожаю (ив этот момент находящиеся в руках бумаги бросил в огонь камина), садитесь и пишите то, что продиктую». Продиктовал и освободил. Эти подробности рассказывал мне сам Александр Будзиньский. Примеру госпожи Будзиньской последовали все, кто был в состоянии платить. Начались явные торги, как на ярмарке. Писарев знал имущественное положение каждого. Не требовал сумм невозможных, но выдирал как можно больше. Мы потом приблизительно подсчитали, что это политическое следствие принесло Писареву чистой прибыли около 300 000 рублей серебром. Окунал ли руки в эту чистую прибыль Бибиков, с уверенностью сказать нельзя. Несомненно лишь то, что обо всем этом он знал во всех подробностях и со снисходительностью сатрапа платил мужу за покорные ласки блиставшей в то время красотой госпожи Писаревой.
По выезде из Киева на следующей станции застал я какого-то военного господина, который пил в соседней комнате чай. Он подошел ко мне и с некоторым волнением в голосе спросил, не может ли быть мне чем-нибудь полезен. Я воспользовался его любезностью и настоятельно попросил устно сообщить жене моей, что встретил меня в пути на сибирскую каторгу. Продиктовал ему адрес жены в Киеве, он записал его. Обещал мне сделать это и обещание исполнил. Впоследствии я узнал, что это был некий граф Потоцкий, флигель-адъютант императора. Далее на протяжении всей дороги до Тобольска не встретилось живой души, через кого я смог бы передать несколько слов бедной моей жене. Некоторым из товарищей повезло больше. В Москве, где каждого из нас задерживали более десяти часов для замены жандармов, навестил их московский губернатор и позволил написать семьям. Ко мне не заглянул никто, никто не подал мне стакана воды. Поместили меня в какой-то пустой холодной тюремной бане, ибо иного места не нашлось. Дрожал я весь от холода, а внутри ощущал невероятную жажду. Тюремный сторож принес мне в ковше арестантской каши и в кастрюле холодного кваса. Я попросил подогреть этот квас. Сжалился кацапина44 и принес мне теплого кваса. Там было так ужасно, что я с нетерпением высматривал жандармов. Явились они наконец и повезли меня дальше. По такой причине не написал я из Москвы жене. В письме от 15 апреля 1839 года она упоминает: «Антолька получила письмо от мужа из Москвы, а я до сих пор от тебя — ни буковки». Долго пришлось ждать бедной, потому что я только из Тобольска мог написать и написал.
В письме, начатом 29 апреля, а законченном 5 мая 1839 года, жена сообщила мне, что получила от меня известие из Тобольска. Письмо это получил я в первых днях августа, в губернском городе Томске45. А во время его написания я находился в глубине Тобольской губернии и вместе с товарищами высиживал «веснование». В северных областях переход от холода к теплу происходит внезапно. В Сибири же можно сказать, что существуют лишь две поры года: зима и лето. В конце апреля — начале мая дни увеличиваются в два раза быстрее, чем у нас. Солнце начинает сильно пригревать. Тают снега, трещат толстые льды на реках, начинается быстрая, буйная вегетация, и в мгновение ока наступает лето. Все эти изменения в природе завершаются в течение трех недель, а иногда и быстрее. На этот короткий период прекращается всякое сообщение. Тогда по правительственным распоряжениям приостанавливается регулярное передвижение арестантских партий на всем протяжении тракта от Тобольска до Иркутска. Каждая партия остается на этапе там, где ее застал приказ, пока следующий приказ не велит ей выступать. Это называется «веснование».
Такой приказ ожидал нас на этапе, начальником которого был офицер господин Здоренко. Некогда был он отдан в рекруты и после многих лет достиг офицерского звания и полновластия на этапах. Такого сорта начальниками снабжены почти все этапы. И вот господин начальник сразу принял нас очень недоброжелательно, так как приказал нас поместить вместе со всеми арестантами. Такой приговор немало нас испугал.
Хоть и знали мы, что г. Здоренко поступает не по закону, но что поделаешь? Кому жаловаться? Сообразили мы кое-как, что дело во взятке. Складчина, собранная благородным Штубендорфом в Тобольске, дала нам возможность откупиться и избежать ужасных неприятностей.
10 рублей ассигнациями полностью задобрили господина начальника, он даже начал нам оказывать и оказывал до конца особую благосклонность. Сразу же поместил нас в отдельной просторной и чистой избе, в которой нам действительно было удобно. Позволял выходить за пределы этапа без конвоя. Валеры Коссаковскому не запрещал охотиться, давал собственное охотничье ружье, когда узнал, что он охотник. Приглашал в свою офицерскую баню и сам исполнял обязанности банщика, чистя нас пучком березовых веток, называемым веником. Поэтому прощались мы с бедным Здоренко с благодарностью, и я до сих пор благодарен ему. Человек из простонародья, проведший жизнь в среде, где взятка была средством и целью бытия, что ж удивительного, что он желал и искал взяток? Но один раз взяв то, что, по его пониманию, свято ему полагалось, становился он после этого благосклонным, любезным и по-своему порядочным. Годы спустя, возвращаясь из Иркутска, хотел я его навестить, но его уже не было на этапе. За какую-то взятку, неосторожно полученную, потерял он должность и был отдан под суд. Кто каким оружием сражается, от такого и погибает.
Какая же была тогда наша доля! Само лишь воспоминание о ней страшно. Угнетали нас острая печаль и тоска по минувшему, безвозвратно утерянному и тем особенно дорогому. Пустота будущего, горе нескончаемое убивали всякую надежду. Каждый из нас в то время не был расположен к общению — был угрюм, молчалив, печален. Однако надо было чем-то заполнить длинные, однообразные дни, требовалось искать спасения, какого-то развлечения для тела и души. Не было у нас никаких книг, кроме Евангелия и молитвенников, не было ни малейшего контакта с миром. Этап стоял на равнине, покрытой бесконечно тянущимся березовым кустарником, вокруг пустыня без движения, без жизни. Необходимость вынуждала думать о пропитании. Каждое утро являлись торговки из какой-то близлежащей невидимой деревни и приносили различную снедь для веснующей партии, у этих женщин мы покупали хлеб, молоко и мясо. Мы разделились на четыре пары. Обязанностью каждой пары было по очереди готовить обед. Это были первые пробы кулинарного искусства, которое впоследствии развилось великолепно. Уже тогда два человека имели ежедневное механическое занятие, неизмеримо благотворное, так как оно помимо воли развлекало. Остальные высматривали обед — ведь в молодости при скромной жизни аппетит есть всегда. У них была поэтому какая-то на что-то надежда. Правительство выплачивало каждому 6 грошей в день на питание, получалось 48 грошей. В Тобольской губернии, очень дешевой, этого как-то хватало и голода не было. С утра каждый получал кружку молока с булкой, на обед — борщ или суп с крупой и с мясом, приготовленный в таком количестве, что хватало и на ужин. Появились шахматы из хлеба, выструганные из дерева шашки, шахматные доски — расчерченные на квадраты листы бумаги. Ксендз Яжына получил от Здоренко колоду старых карт. Так что после обеда садились за шахматы, шашки либо все общество играло в карты, припоминая по очереди самые разнообразные игры. Так прошло три недели, по истечении которых пришел приказ двигаться дальше.
В конце мая 1839 года мы приближались к Таре, первому на нашем пути уездному городу Тобольской губернии. Уже было тепло, даже жарко. В нескольких верстах перед городом догнала нас панна Паулина Вильчопольская. Мы не знакомы были с ней лично, но знали, что она содержалась под арестом в Киевской крепости вместе с другими дамами. Жила она в собственном имении, в Староконстантиновском уезде, а приговорена была к поселению в Сибири, в Таре46. Это была немолодая уже девица, тем не менее еще с некоторыми претензиями. Ее тарантас остановился, и мы стали приветствовать ее с любопытством и неподдельной радостью. Она обещала прийти к нам в Таре на этап для более обстоятельной беседы. «Нет ли у вас табаку?» — спрашивали все мы, ибо недостаток этого лакомства донимал нас очень. Она нашла четверть фунта вакштафа, который мы поделили как можно тщательнее. «До свидания в Таре»,— и тронулись вперед.
На следующий день мы уже находились в городе. Вильчопольская со своей горничной, молодой, красивой и очень расторопной волынской крестьяночкой, которая, хоть и крепостная, но добровольно поехала со своей госпожой в изгнание. Ссыльные, позднее направленные в Тару, влюблялись в нее без памяти. Я никогда с ними не виделся и фамилий не помню. Знакомство было легким, а беседа неиссякаемой. Узнали мы, что пани Эва Фэлиньская, мать будущего архиепископа Варшавского, вместе с панной Юзефой Жонжевской47, обе из Луцкого уезда, приговорены к поселению в Берёзове, в самой северной части Тобольской губернии. Также узнали мы, что после того как все мы были высланы, в Киеве распространилось известие, будто четырех наших товарищей причислили к первой категории и что они должны быть повешены. Это были Каспер Машковский, Антони Бопрэ, доктор, Пётр Боровский и Фрыдерык Михальский. Мы поверили этому печальному известию, ибо если нас, менее виновных, осудили так строго, то для них, признанных самыми виновными, осталась только смертная казнь. И с этой поры стали мы читать «Ангел Господень» за упокой души мучеников48.
Мы пошли вперед. Сильно потеплело. Началась жара. Чтобы избегать зноя, партию выводили до наступления дня, между двумя и тремя часами ночи. Не всегда это помогало, особенно когда случался длинный перегон. Обычно давали две одноконные повозки под наш скудный багаж. Если возница, как правило владелец повозки, был человек добрый, что часто случалось, то можно было присесть и отдохнуть. Но иногда вместо двух телег была только одна. Тогда необходимо было постоянно идти пешком. Усталость тогда оказывалась огромная, едва хватало сил добрести до этапа.
Вторым и последним городом в Тобольской губернии был Каинск. Расположен он на самой границе Тобольской губернии. Здесь множество евреев, а так как там, где евреи, там должна быть торговля, то когда мы вошли в Каинск, показалось, что мы очутились в родном городке. По обеим сторонам тракта стоят деревянные лавчонки, по внешнему строению и внутреннему оснащению совершенно такие же, какие можно увидеть в волынских и подольских городах. Высыпала любопытная толпа с криками: «Ай, вай, панночки наши! Откуда вы? А как давно из дому? А куда идете? Ай, вай, несчастье!» Одна такая купчиха произнесла дважды, услыхав мою фамилию: «Ну! Я помню пана Ручиньского, что делал отбор в Брусилове: может, это отец ваш?» Она была из Брусилова, а сослана в Сибирь за контрабанду. Отец мой, будучи владимирским судьей, действительно проводил отбор в имении наследников Тадеуша Чацкого. И побежала евреечка в свою лавочку и вручила мне несколько фиг и конфет, так как торговала бакалеей. Толпой эскортировали нас евреи к этапу, стоящему на другом конце городка. Там расхозяйничались полностью, задобрив всю этапную команду; принесли кипящий самовар, булок и угощали нас чаем. Хотели привести музыку, чтобы развеселить нас. Мы поблагодарили за излишнее выражение восторга, но такое сочувствие и любезность евреев-изгнанников искренне нас тронули. Так вот влияют на людей воспоминание и тоска. Святые чувства! Облагораживают каждого, но наиболее щедро того, кто в состоянии лучше оценить их и им следовать.
Ближе к Томской губернии природа становится красивее. До сих пор были равнины, покрытые карликовыми кустами, однообразные, скучные, теперь ландшафт стал красив и разнообразен. Появились холмы и березовые и кедровые рощи; кое-где в отдалении виднелась деревня над какой-то маленькой, неизвестной речушкой. Перемена эта напоминала разницу между нашим Полесьем и более красивой частью Волыни и еще более красивой Подолией. Был конец мая — начало июня, так что весна была в полном расцвете, украшая своей прелестью даже самые непривлекательные места.
В этой-то местности, где-то далеко уже за Каинском, встретила нас неожиданная большая радость. Помню, проходили мы через красивый лесок, тянущийся по обеим сторонам тракта. Адольф Рошковский несколько поотстал и шел сзади на несколько сот шагов. Догоняет его какой-то сибирский крестьянин на одноконной повозке. Сняв шапку, спрашивает: «Вы один из поляков из этой партии?» Получив утвердительный ответ, извлек из-за пазухи пакет, вручил его Адольфу, стегнув лошадку, поспешно двинулся вперед. Взглянул Адольф на адрес и узнал почерк Антони Бопрэ. Взволнованный, бежит к нам и запыхавшись кричит: «Живы наши, идут за нами, смотрите, вот доказательство!»
Как же велика была радость наша, душа воспрянула, и в ней появилась какая-то надежда. Так, может, не все для нас кончено и, может, милостью Божьей когда-нибудь выберемся из нынешней горькой участи. Лихорадочное нетерпение мы должны были сдерживать, поскольку было небезопасно разрывать пакет и читать письма в присутствии окружающих нас солдат. Надо было спешить на этап и лишь там читать и слушать, что пишут воскресшие. А сообщали они следующее: когда всех нас уже вывезли, когда выслали также университетскую молодежь в солдаты на Кавказ, а остальных арестантов — на поселение в Россию, тогда лишь с некоторой торжественностью зачитали им четверым приговор к смерти через повешение. Каждому прислали исповедника и позволили написать семьям.
На третий день вывели их на площадь перед крепостью, где увидели они четыре виселицы, окруженные большим числом военных, стоящих под ружьем. Всех четырех ввели на помосты, палач уже надел им было петли на шеи, как вдруг произошло сильное движение и послышался голос, приказывающий: остановитесь! Это был голос Бибикова, который подъехал во всех регалиях своего высокого звания и объявил, что по высочайшей милости преступникам даруется жизнь.
Все это, наверное, продумано было заранее, но приговоренные уверены были, что пробил последний час. После этого их, живых, отвели в крепость, ко всеобщей радости всего города, который был в невыразимом ужасе от вида возводимых виселиц. Происходило это 13 марта 1839 года. На следующий день всех четверых выслали на каторгу с такими же, как нас, формальностями, только их менее обобрали, потому что при их отправке Афанасьев был не один. Они приехали в Тобольск вскоре после нашего выхода и двигались в следующей за нами партии.
Каспер Машковский, сын Миколая, из Староконстантиновского уезда изучал науки в Кременце. Женился очень молодым на богатой панне Грабовской. Женитьба была неудачной, и они разошлись. В 1831 году он служил в польском войске. Под Замостьем был ранен и носит на лице почетный шрам от палаша. Высокого роста брюнет с кудрявой шевелюрой. Сердце доброе, чувства благородные, характер не сказать чтобы сильный, но упрямый. Большой оригинал, что являлось поводом для весьма забавных сцен в дружеской среде. На виселицу шел с неподдельной отвагой. Жив до сих пор, ему уже более 70 лет. Житель Киева, повсеместно любимый и уважаемый.
Антони Бопрэ, также ученик кременецкой школы, затем Виленского университета, где он получил степень доктора медицины, был частнопрактикующим врачом в Кременце. От родителей-французов унаследовал во внешности и темпераменте характерные французские черты. Смуглый брюнет, живой, даже необузданный. Ум его был обогащен широкими знаниями. Память он имел громадную — никогда не забывал того, что однажды прочел. Но память отрицательно сказывалась на независимости его ума. Был он самовлюблен, из-за этого не всегда легок и приятен в общении с товарищами. Я не очень ему симпатизировал, однако отдаю должное многим его достоинствам. Возвратившись на родину в возрасте почти 60 лет, он женился на молодой панне Северине Ивановской, дочери Феликса, друга и товарища по школе. Умер недавно в Кременце, оставив молодую вдову и двоих детей, сына и дочь.
Пётр Боровский, также кременчанин, окончив науку в лицее, трудился гувернером в зажиточных шляхетских домах. Позднее, женившись, осел в Киеве при университете и содержал пансион для студентов. В таком статусе он и был арестован. Приятной наружности, обаятельный в дружеском общении, безупречного рода, он был очень симпатичным товарищем. Освобожденный от каторжных работ, получил выгодную должность в Сибири, на золотых приисках. С началом нынешнего правления, когда все возвращались на родину, дела Пётра так запутались, что он вынужден был остаться на месте, чтобы их урегулировать. И до сих пор находится в Восточной Сибири, живет там и работает; всеми уважаем. И, вероятно, никогда уже не вернется на родину. Да и зачем бы ему возвращаться, не имея никакого капитала, но насчитывая 70 лет с лишним! Трогательно и сердечно вспоминаю я дорогого Пётра.
Фрыдерык Михальский, зажиточный землевладелец из Брацлавского уезда Подольской губернии. Был он уже весьма немолод, имел взрослых детей. По-видимому, учитывая возраст, его оставили в окрестностях Иркутска, на так называемом Александровском заводе. Это большой винокуреный завод, где работают сосланные на каторгу. Там с паном Фрыдерыком соединилась благородная жена его, урожденная Старорыпиньская, также уже немолодая. Она самая первая приехала в Сибирь и не отошла от мужа до его смерти на том же Александровском Заводе. Я бывал там у них, когда меня освободили с Нерчинских рудников и когда некоторое время жил я рядом с Иркутском. Почтенная старушка, засыпав могилу мужа в сибирской пустоши, одинокая, возвратилась на родину. Долго ли жила, не знаю, а жаль, что не знаю49.
Двигаясь вперед, подошли мы к Алтайским горам, где находятся серебряные рудники, и к самой большой сибирской реке, называемой Обью. На тракте находится уездный город Колывань, очень живописный, но бедный. Туда сослан был ксендз Михалевич, который по возвращении на родину был и остается домашним капелланом у пана Цезары Понятовского, богатого помещика в Киевской губернии.
На довольно значительном протяжении дорога идет по берегу этой воистину величественной реки. Обь несет свои воды среди лесов, уходящих вершинами в небо. Посреди реки разместились острова, также поросшие деревьями. Противоположный берег едва различим. Переправа трудная и длится долго. Производится на плоских обширных паромах. Паром сперва тянут бечевой против течения до известного пункта, определяемого опытом. Оттуда отпускают его по течению, с силой направляя к противоположному берегу. Мы переплывали эту реку, кажется, во второй половине июля. До сих пор помню острую тоску при взгляде с другого берега на громаду воды, отделяющей меня от родины, жены и семьи. Сколько ж еще таких и даже больших переправ было перед нами! Жестокая жара, несметные скопища комаров. Их количество, размеры и яростность невыразимы и незабываемы.
Сопровождающие этапы солдаты обкуривают избы тлеющим сеном. Когда дым становится таким густым, что невозможно дышать, открывают окна, через которые вместе с дымом удирают комары. Однако это не очень помогает. Лица наши были изранены жалами этих свирепых созданий. Это по ночам, днем же воздух заполняют полчища микроскопической мошкары, слепящей глаза, залепляющей уши. Крестьяне носят густые волосяные маски, предохраняющие от нападения этой мошкары. Мне не на что было купить подобную, поэтому я страдал, как и мои бедные товарищи. Несмотря на все это, мы были совершенно здоровы. Иногда случались даже проблески некоторого веселья, вызванного разговором, воспоминанием, рассказом. Ведь нас было восемь, восемь разных темпераментов в постоянном общении. У ксендза Нарцыза Яжыны, например, была какая-то убежденность, вернее, иллюзия, что случившиеся с нами не может длиться долго, что вот-вот услышим мы приказ либо о полном освобождении, либо о значительном смягчении наказания. Невозможно было опровергнуть эту иллюзию, он даже начинал раздражаться, когда кто-нибудь из нас перечил ему. Приближались мы к Томску — находились на последнем перед городом этапе. Едва прошли, как ксендз Нарцыз на минуту исчез. Возвращается — и с невыразимым задором наставительно обращается к нам: «Ну что? Не говорил я вам? Не верите, когда говорю! Ксендз несет вздор, баламутит?» — и так далее.
«В чем же дело? Что такое?» — спрашиваем заинтригованные. «Что такое? — и показывает рукой на известное этапное убежище: — Идите и читайте». Бежим все и видим на стене написанные мелом слова: «Торопитесь, друзья, весело в Томск, там ждут вас великие милости». Мы не сразу осознали суть дела, поскольку в несчастье каждая надежда воспринимается с легковерием. Но вскоре мы догадались, что это мистификация, ибо каким образом на этапе могли бы знать о милостях предупреждающие нас товарищи, если нам никто о них не говорит, притом мы заметили, что не прибежал с нами брат ксендза, Леопольд. Он-то и был исполнителем этой шутки, которая удалась ему прекрасно. Ведь по случайности ксендз Нарцыз первый пошел за ним и первый прочел на стене его писание. Итак, возвращаемся мы все вместе и застаем Леопольда задыхающимся от смеха, а ксендза Нарцыза с вытянутой физиономией, укоряющим брата.
В последние дни июля пришли мы в Тобольск. Несколько дней провели мы в двухэтажной каменной тюрьме, несомненно самом великолепном в то время здании в этом губернском городе, по большей части деревянном, живописно расположенном над рекой Томью. Самыми важными жителями были богатые искатели золота. У нас была возможность взглянуть на город, так как нас вызвали в губернское правление. Там совершенно неожиданно нам вручили письма от родных. Я получил три от жены; при одном было сто рублей ассигнациями. Стоит ли пытаться описать душевное волнение при чтении этих писем! Ни в одном языке человеческом не найти подходящих для этого слов.
Благодарность за полученные в Томске письма полагается человеческим чувствам тобольского губернатора Талызина. Он выслал их вместе с приложенными деньгами не в Иркутск, а в Томск именно затем, чтобы у нас в пути была моральная и материальная поддержка. Менее человечный томский губернатор отдал нам только письма. Из присланных денег не дал ни копейки и этим подверг нас очень тяжелым страданиям. Уже в Томске хлеб был дорогой. В Енисейской губернии мы попали в полный неурожай. Фунт хлеба стоил пять копеек, и найти его можно было с трудом, мы же имели по шесть копеек в день, которые платило нам правительство. Больше ничего. Так что был фунт хлеба на сутки и оставалась одна копейка, за которую можно было купить разве немного соли к хлебу. Молодые, здоровые, проходя по меньшей мере верст 20 в день, мы были измучены голодом, и голодом в полном смысле слова. Тогда-то на опыте прочувствовали мы те страшные описания осад, когда ели крыс, подметки и даже матери — собственных детей. Все человеческие чувства замирают. Есть, есть и есть — только об этом думать, только об этом мечтать были мы способны. Шли мы, голодные как волки и злые как волки.
Не раз на этапе при виде жирующих солдат безудержно хотелось вымолить у них немножко хлеба и еды. Нищета — это очень плохой советчик. Надо обладать большой внутренней силой, чтобы противостоять искушениям и не унизиться окончательно. Бог милостивый не допустил до этого. Мы пережили эту нужду, гнетущую нас почти до самого Иркутска. Бывали редкие счастливые для наших пустых желудков случаи. Где-то в Енисейской губернии пришел к нам на этапе хорошо одетый человек со штофом под мышкой и довольно объемистым свертком в руке. Представился нам местным целовальником (шинкарем) и попросил принять дар. Обычай не позволяет отказываться, чтобы не оскорбить дарящего. Откровенно признаюсь, что мы вовсе и не думали отказываться, наоборот, мы тут же выпили по рюмочке и начали жадно уничтожать принесенные булки. Завязалась беседа, из которой шинкарь узнал, что мы из Волыни, мы же, в свою очередь, узнали, что он был родом из Житомира. «Я был сослан,— рассказал он,— по оговору, будто я украл бриллианты у каких-то господ Миллеров. Может, вы их знаете?» Сильно удивила нас такая встреча, особенно меня, зятя обокраденных. Действительно, несколько лет тому назад у матери моей жены были украдены бриллианты стоимостью в несколько сот дукатов. Дело было громким, следствие долгое, вора нашли и приговорили к Сибири, а бриллианты, как водится, пропали. Выражение «по оговору» значит в результате клеветы.
Каждый вор, рассказывающий свою историю, употребляет это выражение то ли из-за невольного стыда, то ли из-за желания возбудить сочувствие. Когда я сказал ему, что я — зять господ Миллеров, то увидел, что он также удивился. На следующий день, до рассвета, когда, выходя из этапа, проходили мы мимо кабака, он стоял уже в своих дверях и одного меня угостил рюмкой сивухи, видимо, в качестве компенсации за бриллианты. Никогда не забуду, с каким удовольствием выпил я эту рюмку в три часа утра натощак. Никакой нектар не может быть превосходнее. И с этих пор я уже никогда не удивляюсь при виде рабочего лица, охотно пьющего отвратительную водку в любую пору дня. Самый лучший повар и самые аппетитные приправы — это голод и усталость.
Где-то дальше, в той же Енисейской губернии, на полуэтапе отправился я как-то с Валеры Коссаковским и с конвоирующим нас солдатом в деревню на поиски и покупку хлеба. У двери шинка увидели мы стоящую там молодую еще привлекательную женщину. Как только мы приблизились, обратилась к нам по-польски: «Прошу вас, панове, очень прошу зайти ко мне» — и ввела нас через калитку во двор и в свой дом. Тогда лишь стала приветствовать нас с горькими слезами и самым радушным образом угощать. На стол, накрытый чистой скатертью, поставила водку, булки, масло, телячьи ножки, вареники со сметаной и т. д. Со стыдом признаюсь, что я едва замечал ее слезы и почти не слышал, что она говорила, такая прожорливость охватила меня при виде этих лакомств. Так что мы яростно набросились на них и смели одно за другим. Только потом, прихлебывая чай с ромом, рассказали мы нашей милой хозяйке свою историю и, в свою очередь, выслушали то, что она рассказывала о себе и своем прошлом. Была она родом из Вильно, дочь благородных родителей. Отец был чиновником. Влюбившись в какого-то офицера, дала обольстить себя и бежала с любовником из родительского дома. Затем была, как это часто бывает, брошена, а опасаясь гнева отца и из-за стыда, утаила свое происхождение и как бродяга была выслана в Сибирь. Тут познакомилась с шинкарем, он полюбил ее, и она вышла за пего замуж.
Видели мы эту фигуру в темно-синей бекеше, проходящую через комнату. Поклонился нам, закусывающим, без единого слова. Говорила, что все время ее любил и хорошо к ней относился. Но неизлечимая тоска, сожаление о прошлом, воспоминания о любимой матери точили ее постоянно. Мы бы охотно продлили эту приятную беседу, если б не необходимость возвращаться к голодным товарищам. Забрав то, что дала для товарищей эта добрая грешница, возвратились мы на полуэтап, порадовали ожидающих нас принесенной едой и интересным рассказом. На следующий день перед рассветом она уже ждала нас. Прошла несколько верст, одарила еще чем могла и простилась с нами потоком горьких слез.
Такая вот грустная история любовного безумства. Любопытно, где на своем жизненном пути нашел наказание за совершенное преступление обольститель?
Вскоре я снова пришел на полуэтапе к офицеру с просьбой разрешить сходить в село за провизией. Был он рослый, с болезненным цветом лица. Он был явно нездоров. Я извинился за беспокойство и спросил о здоровье. «Я постоянно нездоров со времени прибытия в Сибирь,— сказал он мне,— а здоровье потерял, когда долго служил вахмистром в кирасирском полку Марии Николаевны50. В этом самом полку служил брат мой Александр, был он там адъютантом. Заинтересованный этим, спросил я тогда, не помнит ли он фамилию польского адъютанта. «Как же, очень хорошо помню, это был поручик Рутиньский». Тогда я сказал: «Перед вами брат бывшего вашего начальника». Он взглянул на меня с грустным удивлением, подал руку и вздохнул. Угостил нас на своем этапе чаем, сливками и булками. Фамилия его была Ткаченко. Когда я возвращался, бедняги Ткаченко уже не было на свете. Умер он от чахотки. Вечный покой доброй душе его!
Помню также хорошо офицера Богданова, который не только хлебосольно кормил, но еще и хлебосольность свою сочетал с чуткостью. Солдатскую избу, которую обычно мы занимали вместе с солдатами, нашли мы тщательно вычищенной и свободной. «Я перевел свою команду в другое место, чтобы вы смогли спокойно отдохнуть»,— сказал он, а одновременно нам принесли поднос с чайными принадлежностями.
Пил чай вместе с нами, беседуя о разных вещах, в манере, доказывающей, что ум его привычен к размышлениям. Также и внешностью своей и поведением отличался от своих коллег по этапу. Одет был чисто, курил не бакун, а вакштаф 51, играл на гитаре и даже имел небольшое собрание книг. Это был действительно офицер, феномен на сибирском этапе. Должно быть, какой-то исключительный случай загнал его туда. Что с ним случилось, мне узнать не удалось. Сказали лишь, когда я возвращался, что выехал неизвестно куда.
На фоне этих воспоминаний особенно выделяется личность начальника последнего перед Красноярском этапа. Когда мы подходили к полу этапу, конвойный офицер предупредил нас, чтобы мы были осторожны, так как принимающий этап — большой оригинал, притом скандалист. Прибывшая партия остановилась перед воротами, мы, как обычно, несколько позади. Вышел офицер с грозным видом, взглянул на нас и приказал прежде завести нас на полуэтап. Затем с военной энергией и пунктуальностью начал принимать арестантов и выдавать соответствующие распоряжения. Так, он простился с офицером, который нас привел, проследил, как арестанты покупали провизию, отправил с площади торговок, расставил везде стражу. Все это забрало довольно много времени. Мы сидели тихо, голодные, ожидая, что будет дальше. А располагались мы на полуэтапе в конюшнях, тогда еще новых и чистых, где летом нам было вовсе не плохо. Когда движение прекратилось и наступила военная тишина, к нам вошел этот мнимый скандалист.
— Как дела, земляки! — воскликнул он по-польски.— Простите, что пришлось вам ждать. Я выполнил служебные обязанности и могу наконец заняться вами свободно.
Повел нас всех в приличный крестьянский дом, где рядом с приготовленной уже питательной едой кипел самовар. Там открылся нам, рассказав о своем прошлом. Фамилия его была Тарковский. Родом был из Киевской губернии. Испытывая сильную тягу к военной службе, в юном возрасте бросил учебу и завербовался в уланы. Из-за отсутствия документов, подтверждающих шляхетское достоинство, он 12 лет прослужил рядовым. Лишь после этого присвоили ему офицерское звание, а за какой-то скандал выслали на должность начальника сибирского этапа. Действительно был он вспыльчив и не склонен к покорности. Дал себе слово, что не сообщит о себе семье, пока не получит эполеты, и слово сдержал. В Белой Церкви был у него брат, которого я знал, так как он был архивистом у гр. Браницких, когда мой покойный отец был генеральным уполномоченным. В связи с таким стечением обстоятельств он позволил мне написать письмо и с риском для себя отправил его по почте в Белую Церковь, на адрес брата. Благодаря ему родители мои и жена получили от меня известие из-под Красноярска.
На этапе он разместил нас в своих офицерских комнатах, кормил, поил и утешал. Так принимал он всех, кто шел перед нами и за нами. Объедали мы его полностью. Когда не оставалось ничего, закупал провизию в Красноярске для следующих гостей. Это был простой человек, без высшего образования, но очень добрый и благородный. После многих лет, кажется, году в 1857, когда все мы уже вернулись на родину, возвратился и наш этапный кормилец. Узнал он, что я живу в Бердичеве, и неожиданно появился. Поселился он в Киеве, но дела у него шли плохо. С Божьей помощью мне удалось хоть немного отблагодарить его. Я предложил товарищам складчину. Небольшая сумма была собрана охотно и быстро, и я вручил ее отставному капитану, и сделано это было вовремя, ибо он очень нуждался в помощи. Не очень давно он умер в Киеве.
Мы вошли в Красноярск, столицу Енисейской губернии; город называется так, по-видимому, из-за окружающих его яров и возвышенностей, сверкающих красной глиной. Расположение степное, грустное; город новый, почти полностью деревянный. Знаменитыми жителями были богатые купцы, владельцы золотых россыпей. Известны были и таковыми являются до сих пор под названием золотоискателей.
Встретили мы в Красноярске католическую часовенку, размещавшуюся в маленьком деревянном доме, неряшливо содержавшемся. Встретили при часовне ксендза Сьнежку52, который своим обращением, разговором, образом жизни и, кроме того, странной и совершенно светской одеждой произвел на нас вовсе не благоприятное впечатление. Продержали нас в Красноярске целую неделю и разрешили присутствовать в часовне на богослужении.
В то время енисейским губернатором был некий Копылов53, человек уже старый, и как старейший среди губернаторов замещал губернатора Восточной Сибири во время отъездов того за пределы Сибири. Это был, по-видимому, довольно просвещенный старичок, хорошо знал латынь и даже обладал значительным собранием древних книг
Подробности эти известны мне по следующему случаю. В составе партии, что шла за нами, находился с восемью товарищами Юльян Сабиньский54, житель Подолии. Это был широко образованный человек; особенно замечателен он был как лингвист. Французским, немецким, итальянским и латинским языками владел он как своим родным, который также знал великолепно. Узнал как-то Юльян, что Копылов знает латынь, что любит ее и имеет латинскую библиотеку. Накатал он тогда послание, в котором выразил удивление по поводу того, что в сибирских степях имеется ученый муж, и попросил помочь усталому от убийственной скуки разуму какой-нибудь латинской книгой. Закончил послание ловкой любезностью, лестной для самолюбия старика.
По прибытии в Красноярск сразу же отправил свое письмо губернатору через начальника тюрьмы. На следующий день поднялась большая шумиха: приехал Копылов. Познакомился с Сабиньским, долго говорил с ним по-латыни и подарил сочинения Саллюстия55. Но это еще не все. Через несколько лет губернатор Руперт56 выехал в столицу, а Копылов прибыл в Иркутск в порядке заместительства. Немедленно он разведал, что Сабиньский находится на фабрике соли в 60 верстах от Иркутска57, послал за ним, сердечно приветствовал как ученый ученого, задержал у себя, любезно угощал несколько дней и с проявлением искренней благожелательности отправил обратно.
Между Томском и Красноярском лежит на тракте уездный городок Ачинск. Не стоит и вспоминать о нем. Не нашли мы в нем никого из наших ссыльных, расположен же он среди унылых и диких этапов и песчаных дюн.
От Красноярска до Иркутска еще верст 1000. По пути один уездный город Енисейской губернии Канск и один Иркутской губернии Нижнеудинск. Недалеко за Красноярском перешли мы через другую великую сибирскую реку — Енисей. Меньше Оби, однако большая, широкая и величественная. Течет среди возвышенностей и уходящих вершинами в небо боров, образуя то там, то тут прелестные пейзажи. Постоянно страдая от голода, дошли мы до Нижнеудинска в середине осени. Наступили пронизывающие холода. Без теплой и целой обуви, плохо одетые, подвергались мы несчастью, ливням, ужасным ветрам, а затем морозам и метелям. Не раз брели мы по грязи и снегу, усталые и голодные. И такие невзгоды закалили наши молодые силы. За все эти страдания Бог вознаграждал нас неиссякаемым здоровьем. Никто из нас не заболел, никто не простудился, никто даже не схватил насморк. Пусть это послужит общим предупреждением и примером для молодежи. Жизнь в воздержании и труде, даже самая тяжелая, развивает и укрепляет силы тела и разума. Безделье и удобства разрушают одно и другое. Первые условия формируют людей деятельных и полезных, настоящих мужчин; вторые создают жалких, изнеженных паразитов, сущих баб в модных шароварах. Что это несомненно так — достаточно взглянуть на нынешнюю молодежь, особенно состоятельную.
В Нижнеудинске была у нас приятная и удобная дневка. Нашел нас там на этапе Михал Глэмбоцкий, родом из-под Кракова, сосланный в солдаты в сибирские батальоны. Был унтер-офицером в Удинской инвалидной команде. Молодой, красивый, толковый, он пользовался неограниченным доверием своего начальника. Немедленно появились чай, мясо и картошка. Подкрепились мы как следует, и началась нескончаемая беседа. Вместе с Михалом подошел и молодой человек Ефимов, учитель уездной Удинской школы, был он с Михалом Глэмбоцким в близких, почти дружеских отношениях. Родившийся и выросший в Сибири, благодаря труду и постоянным поискам лучшего, более образованного общества дошел до определенного культурного развития и стал заметным чиновником. Со временем занял высокий пост в местной служебной иерархии, но всегда питал особую симпатию к полякам. Неоднократно доказывал это даже в сложных случаях и происшествиях, но об этом упомянут, возможно, подробно те мои товарищи, которые впоследствии были с Ефимовым в более близких и длительных отношениях. Подобное расположение встречали мы всегда со стороны личностей, наделенных благородными чувствами и более высокими способностями. Так, например, на Нерчинских рудниках встретились мы с молодым парнем по фамилии Бранд. Там родился, никогда не взглянул на мир за пределами Нерчинских гор, а прильнул к нам полностью. Неустанно искал нас, вслушивался в наши разговоры, научился понимать и читать по-польски, одним словом, получал образование. Постоянно был с нами, так что мы его в конце концов начали считать товарищем. Он имел приятную внешность, цвет лица бледный и нежный, манеры приличные, проявляющие благородство натуры. В то время был он горным унтер-офицером, впоследствии получил офицерское звание.
От Нижнеудинска до Иркутска еще верст 500. Расстояние это проходили мы уже глубокой зимой. Помню лишь, что холода и метели очень нас донимали и что мы всегда с радостью приближались к крыше этапа. Медленно, но непрерывно продвигаясь, увидели мы наконец Иркутск, кажется, в последних числах ноября 1839 года58. Итак, от Тобольска до Иркутска путешествовали мы восемь месяцев.
В каждом, даже самом печальном положении вкрадывается в душу надежда. Ожидание и любопытство охватили нас при входе в последний губернский город Сибири. Прежде всего надеялись мы на то, что, вероятно, заканчивается долгое, отвратительное кочевание, что какая бы судьба нас ни ждала, будем, по крайней мере, на месте. Надеялись мы также, что в Иркутске ждут нас письма из дому, известия от любимых, а может, и денежная поддержка. Торопились мы поэтому к простой квартире, к Иркутской тюрьме.
С той стороны, откуда мы приближались к городу, то есть со стороны так называемого Московского тракта, Иркутск выглядит красиво. Город расположен на ровной местности, имеет несколько церквей и значительное количество каменных домов. У самых городских стен течет река Ангара. Вытекает из озера Байкал, течет на север к Ледовитому океану и далее получает название Тунгуска59.
Течение очень быстрое, поэтому вода в ней такая холодная, что никто в ней не может купаться, и такая прозрачная, что везде, даже в самых глубоких местах, видно дно. Вследствие очень быстрого течения замерзает с трудом, обычно около Рождества Христова в период сильных морозов. До того постоянно и все сильнее парит, так что перед ледоставом покрывается густым непроглядным туманом. Наконец, однажды утром вся река оказывается покрытой большими острыми глыбами льда.
Тюрьма стоит на другой стороне города. Надо было поэтому прошагать через весь Иркутск, но мы не злились из-за этого, наоборот, с интересом оглядывались мы направо и налево, и вид многочисленных, свободно движущихся людей был для нас приятным развлечением. Сегодня я не помню уже ни города, ни улиц, помню, однако, что из всех познанных тюрем Иркутская была наименее отвратительна и угрюма. Нас ввели в чистую и очень просторную комнату; была она достаточна светлая и теплая. Принял нас начальник тюрьмы, который уведомил для начала, что мы сможем выходить в костел и в город сколько захотим.
Любезность эта была результатом хлопот русских ссыльных 1825 года60. В то время уже все они были освобождены от каторжных работ, а многие из них поселились в окрестностях Иркутска. Принадлежащие к самым известным московским семьям, располагая значительными денежными средствами, ибо в большинстве своем были богатыми, они жили в добротных и удобных домах, построенных в ближних селах, и все местные власти были с ними вежливы, даже уступчивы из невольного опасения перед могущественными связями в столице. И вот на следующий день с утра приехали к нам Сергей Волконский и Артамон Муравьев. Первый был князем и генералом еще в 1815 году. Второй был командиром полка ахтырских гусар, который в 1825 году стоял в Любарах на Волыни. Оттуда арестованного полковника вывезли в Петербург. Оба господина приветствовали нас не только дружелюбно, но даже в товарищеском духе и манере. Предложили свою помощь в чем только будет возможность и потребовали, чтобы мы им как ссыльным откровенно высказывали свои потребности. Прежде всего мы жаждали писем, которые должны были лежать в канцелярии губернатора. Они тут же использовали свое влияние, и очень скоро почти каждому из нас вручили письма и ожидающие нас деньги. Несколько писем получил я от измученной жены моей. Сел я в уголке и всей душой погрузился в их чтение. Все товарищи также были заняты, стояла полная тишина. Текли слезы из глаз, но одновременно сердца наполнялись минутным успокоением и утешением. Молодым годам присуща неизмеримая сила, вера в то, что все желаемое будет достигнуто, что все ожидаемое придет. Вот и я дождался прибытия опекунши моей, но с того момента ожидание это продлилось еще три год61.
Генерал-губернатором Восточной Сибири был в то время Руперт; жил он в прекрасном доме над Ангарой. Губернатором был Пятницкий62, хороший человек, по крайней мере я должен так сказать, ибо ощутил его благосклонность, о чем напишу ниже. Как губернатор он практически бездействовал. В его канцелярии совершались большие злоупотребления. Начальник канцелярии воровал напропалую. Мы все это испытали. Поступающие для нас посылки он полностью забирал себе либо выбирал из них те вещи, что больше всего ему нравились. У меня украл два жилета, а домашние полотенца заменял кусками сибирского полотна. Во всей России везде одно и то же: везде воруют и воруют.
В Иркутске есть католический костел и при нем двое ксендзов; протоиереем был ксендз Хачиский, викарием ксендз Шайдевич, оба из ордена бернардинов, оба с небольшим образованием, но поведения безупречного.
Привыкшие ко всякого рода ссыльным, они не проявляли к нам того сочувствия, какое имели мы право ожидать от католических священников. Приняли нас, однако, гостеприимно. Ежедневно бывали мы на богослужении, затем на скромном завтраке у протоиерея. Небольшой деревянный костел содержался неплохо. Учредителем был граф Литта, русский католик63.
Он оставил фонд, которым костел содержится до сих пор. По обе стороны большого алтаря находятся двери, которые должны бы, казалось, вести в ризницу, а тем временем они ведут прямо в квартиры и комнаты ксендзов. Это неуместно, но в Сибири многого требовать нельзя. Оба почтенных бернардинца вследствие длительного пребывания в Сибири приобрели привычки, не соответствующие духовному сану. Хачиский был страстным торгашом, торговал постоянно и всем, особенно лошадьми. Шайдевич же был заядлым охотником. Легко догадаться, что в таких условиях богослужения проводились лишь по праздникам и в исключительных случаях, как, например, наше прибытие. Позднее узнал я обоих этих священников ближе и лучше. С обоими были у меня забавные происшествия, о которых, возможно, далее упомяну.
В Иркутске продержали нас более десяти дней. И нам было неплохо. Ходили мы в костел и в город, разумеется, постоянно с конвоем. Каждый из нас старался запастись необходимыми вещами. Каждому нужна была целая рубашка, обувь без дыр. Вот и я купил себе кунгурские сапоги. Кунгур — это город в Пермской губернии, известный выделкой юфтовых кож. Кунгурские сапоги расходятся по всей Сибири. Действительно, кожа толстая и мягкая. Новые сапоги служили мне хорошо и долго, а когда отбросил я лохмотья, которыми до сих пор обматывал ноги, то почувствовал себя элегантным господином. Этим ограничил я свои расходы, ибо, имея тяжкий опыт, предпочитал сохранить деньги на хлеб и мясо, поскольку неизвестно было, где и когда получу следующее денежное пособие. Так же предусмотрительно поступали и все товарищи. От декабристов получили мы запас сахара, чая и табака. Так называли русских ссыльных 1825 года. Мы не могли отказаться от этого пожертвования, сделанного, впрочем, очень по-дружески. Они также предупредили, что нас отправят на каторжные работы недалеко от Иркутска. Действительно, вскоре приказано было собраться в Усолье.
Так называется соляной завод в 60 верстах от Иркутска, над рекой Ангарой. В этом месте Ангара разделяется на два русла, образуя небольшой островок, в середине которого находится неисчерпаемый источник соленой воды. Выкачиваемый соляной раствор стекает в деревянные желоба, соединяющие источник с варницами, установленными на другом берегу реки, где лежит все поселение Усолье. Варницы — это железные котлы, широкие, но плоские, поставленные на кирпичные опоры, окруженные деревянными стенами и накрытые островерхой крышей с отверстием вверху вместо трубы. Котлы эти около двух саженей в диаметре высоту имеют не более аршина. Поступающий в них из желобов соляной раствор выпаривается до тех пор, пока соль не станет почти сухой. Под котлы вкатываются толстые сосновые колодцы длиной не более аршина и горят постоянно поддерживаемым огнем. Заталкивать колоды под испарители, зажигать огонь и поддерживать его равномерность, постоянно обжигаясь, — это действительно тяжелая работа64.
Привлекаемые для нее преступники при первой возможности сбегают. Побеги начинаются обычно весной, когда зазеленеют деревья. Происходят они без затруднений и без препятствий, ибо являются источником доходов для местных властей. Каждого присланного на каторжные работы записывают в книгу, и со дня прибытия он получает от правительства два пуда ржаной муки и полрубля серебром ежемесячно. И вот когда бежать начинают, это никого не интересует и не беспокоит, наоборот, беглецы фигурируют в книге как можно дольше, а поступающие для них мука и деньги идут в карманы чиновников. Легкость побега из каторжных мест создала в Сибири некий своеобразный и довольно многочисленный класс бродяг, имеющих свои определенные привилегии, освященные обычаем. Никто бродягу не задерживает, не арестовывает, разве лишь в случае совершения преступления.
От крестьян получают они щедрые подаяния. Летом в деревнях, расположенных у большого тракта, каждая крестьянка перед уходом ко сну ставит для бродяг крынку молока или кладет буханку хлеба на окошке в сенях. Утром, увидев, что хлеб исчез, крестится и со спокойной совестью принимается за обычную работу. Так что ходят они, собравшись в довольно многочисленные группы, свободно как птицы, без всякой опаски, без заботы о хлебе насущном. Заходят даже на этапы, офицер разрешает им ночевать, знакомятся с этапными солдатами, а уходя, говорят: до свидания. Стараются разузнать и всегда знают, в каком городе какой городничий, строгий или не очень, и в соответствии с этим строят свои будущие планы. Осенью, когда начинают донимать сильные холода, приходят по нескольку человек в городок, представляются городничему, признаваясь, что они бродяги. Городничий вынужден забирать их в тюрьму, рапортовать кому полагается, начинается следствие. Они тем временем проводят зиму в теплой тюрьме, за государственный счет. С началом весны следствие обычно бывает завершено, ибо показания бродяг всегда правдивы. Всыпают им тогда плетей в количестве, указанном в приговоре, и каждого отправляют туда, откуда сбежал. Тогда они снова шагают в партии по нескольку месяцев, пока не придут к цели. Там дожидаются весны и опять исчезают. Среди них были даже такие, кто всю жизнь посвящал бродяжничеству, а огромное пространство между Тобольском и Иркутском, свыше 3000 верст, прошел пешком туда и обратно более десятка раз. Во времена, о которых я пишу, происходили непонятные дела, в которые трудно поверить и о которых можно бы написать повесть под заглавием «Сибирские тайны». Ниже, возможно, напишу о вещах ужасных, страшных, которые мне самому довелось видеть.
Возвращаюсь к Усолью. Поселок имел вид городка. Большие по размеру, добротные дома были для чиновников, а меньшие, опрятные домики — для местных жителей. Были большие государственные амбары, предназначенные для складирования соли и для других государственных запасов. Главным начальником был тогда майор из корпуса горных инженеров немец Мевиус, помощником его являлся поручик Дейхман65.
Привезли нас шестерых: Немировского, двух братьев Яжынов, Рошковского, Грабовского и меня. Дней через десять прибыли Бопрэ, Боровский и Уминьский, а потом еще Сабиньский и Щепковский. Нам разрешили снять квартиры и каждому определили обязательную работу. Мне досталась должность «дровандора». Сосновые колоды для выпаривателей, о которых я упомянул выше, привозили из окрестных лесов и на просторной площади укладывали в штабеля. Бревна эти назывались «елтышами», а привозящие их — «коннорабочими». Правительство платило за доставку, но требовало, чтобы доставка производилась ежедневно всеми.
Итак, дали мне список коннорабочих, в котором я должен был отмечать, кто привез, кто не привез, и каждый вечер докладывать леснику. Я было сразу добросовестно взялся за обязанность. Озяб, стоя весь день на лютом морозе. Со временем я сообразил, что все это ни к чему, поскольку от нас не скрывали, что в Усолье мы временно, что нас отправят дальше, как только замерзнет Байкал66.
Поэтому дал я себе поблажку, а за мной дали себе волю коннорабочие. Из моего «дровандорства» только и было пользы, что, как услыхал я позже, выявилась большая недостача елтыша.
Остальных товарищей разместили на двух соседних заводах: на Тельминской фабрике по большому Московскому тракту, на которой вырабатывались сукно и фаянс, и на Александровском заводе, большой государственной винокурне. Будучи так размещены, мы проживали день за днем, не зная, что будет дальше, куда еще погонит нас судьба. Вот и воспоминания о той краткой эпохе остались бесцветные, унылые67.
Зима была суровая, морозы ниже 30 градусов. Не имели мы ни соответствующих квартир, ни достаточно теплой одежды. Была нужда, но Бог давал здоровье. Климат в Иркутской губернии хорош тем, что он постоянен. Не бывает внезапных перемен, зимой никогда не бывает оттепели. Осенью начинаются морозы, постепенно и непрерывно усиливаясь, до конца января. Затем они несколько уменьшаются к весне. Весна начинается в апреле, вегетация — в первой половине мая. К такому порядку в природе жители приспосабливают свои хозяйственные сооружения и обеспечение насущных жизненных потребностей. В течение всей зимы всё заморожено. Дичь, рыба, яйца, даже молоко продаются в замороженном виде. Путешественники наполняют сани кусками замороженного супа, замороженного молока, замороженными варениками с мясом, называемыми «пельменями». На станции в обеденную пору ставят кастрюлю с куском льда на огонь, в закипевшую воду бросают пельмени, и в мгновение ока готова хорошая еда.
Ангара, как я уже упоминал, замерзает около Рождества. Байкал встает лишь в январе. Как только лед установится, земская полиция намечает прямую дорогу, укрепляя по обеим сторонам ее сосновые ветви. На середине дороги вбивают верстовой столб, у которого проезжающие делают небольшую остановку. Протяженность этой дороги 60 верст, и это самое узкое место Байкала. Итак, нас держали в Усолье, пока Байкал не стал и пока не наметили, и не накатали дорогу. В начале февраля 1840 года пришел приказ отправить нас в Иркутск68.
Господин начальник Мевиус оказался человеком чести, ибо пригласил нас всех на прощальный ужин. Трогательно прощались с нами остающиеся в Усолье Немировский, Сабиньский и Щепковский. Остались, потому что нужны были для воспитания детей Мевиуса69.
Из Тельминской фабрики забрали всех, на Александровском заводе оставили Фрыдерыка Михальского с сыном Люцьяном и двух братьев Олизаров, Филиппа и Кароля. Почему оставили их, этого мы никогда не смогли узнать. Впрочем, во второй раз все мы собрались в Иркутской тюрьме. Было нас 21 назначенных на Нерчинские рудники. Два старичка, Маурыцы Кисель и Людвик Янишевский, под предлогом болезни остались в Иркутске, в надежде, что их, как стариков, оставят там совсем. Однако это не удалось, и потом им самим, вдвоем, пришлось совершить этапное путешествие. От Иркутска до Нерчинских рудников еще 1 400 верст.
С благодарностью вспоминаю я дружелюбную товарищескую заботливость, которую проявили к нам российские изгнанники. Ежедневно нас навещали, добились для нас у местных властей разрешения на дальнейшую ссылку без кандалов и приказа выделять нам по десять подвод на каждом этапе. Помимо этого, снабдили значительным количеством книг серьезного содержания, которые были для нас подлинным и полезным питанием ума. Вспоминается мне еще одна подробность. Эти же русские ссыльные принесли нам как-то экземпляр «Иркутской губернской газеты», в котором были напечатаны все наши имена и фамилии и приложен перечень целей нашей организации. А именно напечатано было, что намеревались разрушить все религиозные и нравственные законы, подстрекать народ против господ и против правительства, распространять резню и убийства, вер путь времена Марата и Робеспьера. За десятую часть приписываемых нам преступлений следовало бы каждого повесить. Без труда переубедили мы декабристов, поскольку они, наученные опытом, не очень верили подобным публикациям. Но что более печально, так это факт легкомысленного доверия к этой печатной белиберде в среде земляков, на родине. Следы такого слепого доверия нашел я еще по возвращении домой70.
Всех нас, 19 человек, отправили вместе. Шагать к Нерчинским рудникам предстояло почти три месяца. Следовало обдумать методы удовлетворения жизненных потребностей и ввести постоянный порядок. У нас были запасы сахара, чая, табака. У каждого в кармане было немного монет. Вскладчину купили мы два медных котелка, один для супа, другой для каши, лапши или чего-нибудь подобного. Аккуратный и хозяйственный Пётр Боровский был выбран «гоффурьером»71. В его обязанность входило следить за кухонной посудой и снабжать походную кладовую. Службу эту выполнял он прекрасно. Всегда все было. Впрочем, все мы разделились попарно. Каждая пара по очереди должна была готовить обед. Освобождены от этой работы были Марьян Подхородэньский, страдающий астмой, и Тэофиль Чапский, калека без ноги. Оставалось 16 человек, то есть восемь пар. Очередь готовить обед называлась «нести шнурвахту» — слово, заимствованное у польской армии, где оно означало сторожить обозных лошадей, привязанных к бечеве. Мы уже приобрели опытным путем некоторые кулинарные навыки, так что обеды бывали питательные и вкусные.
В момент выступления из Иркутска явился старый князь Волконский и, объявив, что проводит нас до первого полуэтапа, уселся вместе с нами на этапные сани. Верстах в шести от Иркутска есть деревня Разводная, живописно расположенная на высоких берегах Ангары. «Здесь живет мой товарищ Якубович,— сказал нам Волконский72,— он ждет нас к завтраку». Партия остановилась, мы все пошли к стоящему поблизости аккуратному домику. На пороге встретил нас хозяин, рослый, с пышными усами, он с дружеской учтивостью пригласил нас в комнаты. Там приготовлен был стол, обильно заставленный всевозможной едой, горячей и холодной. Это было заранее задуманным делом. Знакомство состоялось быстро, и при обильном пиршестве завязалась оживленная беседа. Якубович и Волконский рассказали нам о своей сибирской эпопее, о первом, тяжелом поначалу времени ссылки, знакомили с Забайкальем и с Нерчинскими рудниками, в которых оба побывали, и давали нам доброжелательные и полезные советы.После двух часов приятной передышки пришлось попрощаться с гостеприимным соизгнанником, которого больше я никогда не видел, ибо он умер. Под вечер, пройдя верст 20 с лишним, приблизились мы к стоящему у тракта желанному хутору. «Здесь живет другой мой товарищ, по фамилии Панов73,— сказал опять Волконский,— ждет нас к чаю». На крыльцо вышел среднего возраста, невысокого роста блондин. Некогда был он офицером гвардии гренадеров. Небольшая квартира его так заполнилась прибывшими, что едва смогли мы в ней поместиться. И опять знакомство с хозяином, и опять хорошая беседа за чаем. Позднее я познакомился поближе с Пановым, так как был его соседом. Уже темнело, когда мы распрощались с благородными русскими. Волконский остался у Панова, мы же поспешили к близкому уже полуэтапу. И снова началось трехмесячное странствование. Куда и зачем? О Господи!
На следующий день была у нас дневка на этапе, в деревне Лиственничной74, на самом берегу Байкала.
Там находится что-то вроде порта, стоят суда, осуществляющие сообщение с противоположным берегом. Теперь судоходство стало лучше и безопаснее, ибо имеются пароходы. Рядом с портом вытекает из Байкала Ангара. И здесь, несмотря на самый сильный мороз, она никогда не замерзает, образуя место, подобное незамерзающему болоту, над которым постоянно стоит пар. Расположение Байкала прекрасно. Оно было описано не одним искусным пером. Южные и северные берега ощетинены высокими горами, восточный и северный берега — пологие. Между последними, в самом узком месте, имеющем 60 верст ширины, осуществляется навигация. Простой люд верит, что глубина Байкала неизмерима, что дна в нем нет вовсе и называют это озеро «священным морем».
Преданий и легенд местных полно. Некоторые гласят, что якобы на том месте, где сейчас Байкал, некогда был большой, богатый город с прекрасными домами, но землетрясение все поглотило, и на этом месте образовались бездонные воды. В то время, о котором пишу, Байкал был покрыт толстым льдом, прямая дорога через него обозначена. В первый день шли мы вдоль северного берега верст 15 до зимнего полуэтапа, из которого должны были с рассветом двинуться дальше. И вот перед утренней зарей отправились мы в поход. К счастью, день был тихий, безветренный. Когда взошло солнце, мы увидели другой берег, на расстоянии 45 верст. Шагали мы резво, чтобы до темноты успеть дойти до суши. На этом огромном пространстве схваченной морозом воды трескается лед с громоподобным грохотом; зачастую внезапно образуются трещины шириной в аршин, которые мороз сжимает снова. В половине пути, на самой середине Байкала, мы немного передохнули около вколоченного там верстового столба. Уже темнело, когда мы, измученные и усталые, наконец добрались до берега, на котором находится обширное селение Посольск, имеющее вид небольшого городка. Полно в нем добротных хозяйских домов, есть лавочки с разными необходимыми товарами. Есть большой каменный монастырь, а в нем монахи-черноризцы. Считается, что тут был убит первый посол, направленный из Петербурга в Пекин. Якобы в память об этом происшествии был построен монастырь, а селение названо Посольск75.
Пошли мы дальше по Забайкальскому краю, по древней Даурии. Пусто, глухо вокруг, только деревни вдоль тракта, по нескольку десятков километров одна от другой. Пройдя верст 200, увидели мы уездный городок Верхнеудинск76. День был ясный, воздух мягкий, предвещающий весну. Ввели нас в тюрьму, неожиданно чистую, где несколько дней мы отдыхали. На следующий день навестил нас местный исправник, молодой и красивый брюнет. Узнали мы от него, что Верхнеудинский уезд занимает площадь 90 000 квадратных верст и что он не знает и знать не может всего уезда, начальником которого был. Прощаясь, объявил, что мы можем выходить в город, лишь бы всегда с конвоем. Мы пользовались этой свободой, ходили в магазины. Пётр Боровский сделал продовольственные запасы, поскольку предстояли необозримые бурятские степи, где ничего не найти. От Верхнеудинска расходятся два больших тракта: один на юг к Кяхте, другой на восток, к городу Нерчинску и к Нерчинским рудникам.
Верхнеудинская тюрьма была заполнена особого рода узниками. В Восточной Сибири, особенно за Байкалом, распространялась религиозная секта духоборов. Это христиане, исповедующие веру в единого Бога, верующие в Иисуса Христа и в Пресвятую Деву. Но отвергают любую обрядность. Нет у них церкви, не терпят и не имеют попов, молятся в мыслях и даже мысленно лишь осеняют себя крестным знамением. Одним словом, отвергают внешнюю обрядность, сосредоточивая обращение к Богу в душе. Охотно говорят о своей вере, охотно ее пропагандируют. В тюрьме относились к нам вежливо и услужливо, распространялись о своей вере с явным желанием убеждения в ней и обращения в нее. Такое усердие вызывается у них официальным преследованием. В речах их безотчетно сквозит либерализм. Возможно, руководители секты это понимают, может, правительство догадалось об их целях и, может, поэтому держало в тюрьме явных последователей этой секты, принуждая к православию. Плохой это способ, как любое преследование: вместо того, чтобы уничтожать, умножают число прозелитов, готовых на любые жертвы.
Сразу за Верхнеудинском начинаются бурятские степи. Буряты — это монгольское кочующее племя. Нигде никакого постоянного поселения77. Дорога тянется по голым степям, на которых стоят этапы и почтовые станции на расстоянии более или менее 20 верст. Кое-где виднеется юрта, переносное жилище бурят. Это конус из деревянных жердей, снаружи покрытый войлоком. В самом верху оставлено отверстие, служащее дымоходом. Вход в юрту прикрыт куском висящего войлока, который поднимается. Посредине тлеет костер, над которым подвешен чугунный котелок; в нем варится в воде неразмолотая рожь, бурятский суп. Слева от входа обычно стоит довольно большой сундук, сразу за ним деревянные ступени, сколоченные из трех обычных досок, на них множество латунных сосудов и фигурок разнообразной формы, рядом привязан малый теленок. Это алтарь, перед которым буряты молятся. Справа стоит простая кровать, очень грязная, под кроватью горшки с еще более грязным молоком и иной хозяйственный инвентарь и запасы. Так, без малейших отличий, оборудованы все юрты.
Буряты спокойные, даже кроткие. Землю не возделывают. В своих просторных степях пасут многочисленные отары овец, скота и лошадей. Отары эти — их достояние, и говорят, что среди них есть богачи. Внешность их совсем монгольская: волосы черные, лица смуглые, широкие, носы плоские, глаза небольшие, раскосые. Одеваются они в бараньи кожухи, сшитые наподобие рубахи, носят их зимой и летом, на голое тело, белья не знают. Фасон их одежды одинаков как для мужчин, так и для женщин. Бурятскую даму можно распознать лишь по тому, что у нее в волосах вплетено множество бус, а иногда бусы висят и на шее. Бусы составляют также важную отрасль торговли за Байкалом. Приезжают купцы с большим запасом бус и сбывают их бурятам с большой прибылью. Взамен берут бараньи, воловьи и конские шкуры, различные бурятские изделия, такие как войлок, седла, инкрустированные полированным железом, удила, огнива, китайские трубки, называемые Ганза, и так далее. Все это буряты вырабатывают искусно и красиво, с истинно китайским терпением. Очень падки они на хлеб и табак. За кусок хлеба, за горсть табаку отдают вещь несравненно более ценную: какое-нибудь собственное изделие, полтеленка или полбарана. Обмены такие делали мы часто.
Правительство уже тогда вводило в среде бурят определенные права и обязанности. Ввели перепись населения, налоги, назначали начальников, принаряжали их в форменные кафтаны и украшали медалями. Кроме того, буряты содержали почты и поставляли телеги под вещи арестантов. Телеги у них оригинальные и крайне неудобные. Это нечто похожее на нашу двуколку, только больше размером и более неуклюжее. На два высоких и никогда не смазываемых колеса насажен деревянный ящик, сколоченный из досок, и к этому пристроены оглобли. Впрягают одну лошадь и более, в соответствии с грузом. Бурят или бурятка, сидя на лошади, правит. На почтах у бурят лошади отменные, но недостаточно объезженные. Совершенно спокойно дают себя запрячь. Но тут же сразу начинают проявлять нетерпение. Два бурята с силой их держат, пока не сядут ямщик и пассажир. Тогда отскакивают в сторону, а лошади вылетают, как бешеные. Так летят версту или более, после чего позволяют управлять собой как угодно. Почтовые брички, посаженные на длинных жердях, несутся легко, как на рессорах, и очень удобны.
Бурятские степи простираются на 200 с лишним верст от Верхнеудинска до Читы. В то время Чита была большим и людным центром волости. Сейчас ее превратили в губернский город, столицу Забайкальской губернии78. В Чите первоначально были собраны все государственные преступники 1825 года. Содержали их в больших казармах, специально для этой цели построенных, под особым надзором присланного из Петербурга жандармского генерала Лепарского. На [специально] устроенных жерновах они ежедневно мололи муку из ржи, и в этом заключалась их каторжная работа. Впоследствии всех этих господ перевели на чугунолитейный, так называемый Петровский завод79 недалеко от Читы, и уже там жили они до момента освобождения от каторги и расселения по Сибири.
За Читой начинается край прекрасный и чем дальше, тем более красивый, только очень мало населенный. Переходили мы по горам Яблонного хребта, представляющего собой прелестный ландшафт. С верхушек многих гор, среди которых вьется дорога, открывался широкий вид на долины, изрезанные речками. Казалось, будто эта прекрасная природа приглашает людей собираться здесь, селиться и пользоваться дарами Божьими. Ведь здесь и климат хоть суровый, но здоровый, а почва очень урожайная. Яблонные горы в основном покрыты лесами. Растут здесь поднебесные кедры и хвойное дерево, называемое лиственница, очень похоже на сосну, только более твердое и прочное, а значит, лучшее. Его широко используют для всяческих построек. От Яблонных гор изменяется система всех рек. До сих пор они текли к северу, отсюда текут на юго-восток. Мы проходили через множество рек, больших и небольших, названий которых уже не помню. Помню очень красивую реку Ингоду80 и вторую — Шилку, впадающую в Амур. Стоял апрель, шла уже вторая весна нашей ссылки, а мы все еще шли к конечному пункту.
Прошли мы через уездный городок Нерчинск, небольшой и деревянный, от которого оставалось всего 300 верст до Нерчинских рудников81. Эта часть перехода от Иркутска была гораздо более удобная. Мы не испытывали ни голода, ни особых трудностей, потому что было на что покупать продукты и было по десять подвод от каждого этапа. Мы были молоды, здоровы, и нас было много.
Несмотря на непрестанную и все усиливающуюся тоску, случались минуты мимолетного веселья, остроумных шуток, забавных замыслов. Случались именины, тогда именинник принимал общие поздравления и обязан был устраивать банкет. Пётр Боровский как «гоффурьер» снабжал нас лучшими съестными припасами. Всегда находил где-то хорошее мясо, отличную рыбу, а иногда даже и дичь. Тогда самые лучшие из нас повара, Коссаковский и Цырына, по просьбе именинника готовили обед. Был среди нас благородный, ныне покойный, Марьян Подхородэньский, болезненный, немолодой, но гостеприимный по натуре и по привычке. Как только наступал праздник Девы Марии, его убеждали, что это его именины, и, несмотря на протесты, вынужден был каждый раз устраивать обед. Забавно было видеть, как он, забыв, что находится на этапе, ходил, как дома, от одного к другому, любезно упрашивая кушать побольше, подавая колотый сахар к десерту. Если была возможность добыть водки, мы пили за здоровье именинника «до звездочки». Мы берегли у себя стаканчик с выгравированными на его стенках звездочками. Доходящая до одной из них — это была установленная опытным путем мерка полновесной рюмки водки, и называлась она «до звездочки». После сытного обеда начинались оживленные разговоры. Зачастую затрагивались важные вопросы, касающиеся истории, политической экономии, философии и тому подобного. Наступало общее оживление. Каждый высказывал и доказывал свое мнение. Шум стоял сильный. Не раз этапный офицер заглядывал, чтобы узнать причину. Убедившись, что все спокойно, что лишь кричат беседуя, уходил. В этих памятных дискуссиях главным образом сражались Бопрэ и Машковский. Оба живые и увлекающиеся, каждый разговор их был бурным и безудержным. Иногда казалось, что их хватит удар. И когда всем уже было достаточно споров, эти двое до поздней ночи не могли остановиться, пока не начинали их увещевать: «Перестаньте шуметь, спать не даете».
На пути от города Нерчинска к Нерчинским рудникам встречались нам деревни, уже относящиеся к Верхнему Заводу, так называемые подзаводские82. Мы переправлялись через последнюю реку — Шилку, о которой я упоминал. На другом берегу, тут же рядом с переправой, стояло зажиточное жилище, принадлежащее самым богатым в Нерчинском округе купцам Кандинским. Было их два брата, торгующих совместно. На старость лет построили себе дом в живописном месте над Шилкой, и все дела передали многочисленному потомств83. С Кандинским-сыном, возглавлявшим всю обширную торговлю, мы познакомились в Главном Нерчинском Заводе84, где он постоянно жил и откуда руководил всеми делами.
Под конец апреля 1840 года мы вошли в первый расположенный по тракту Верхний Завод, называемый Газимур. Здесь нас ожидали незнакомые товарищи. Мы уже слышали и знали точно, что во время нашего пребывания в Усолье через Иркутск в Нерчинск провели более десяти очень молодых людей из Варшавы. Пока семерых поместили в Газимуре, а всего их было десять: Брохоцкий Марцели, Эреберг Густав, Грушецкий Михал, Краевский Александр, Морозэвич Станислав, Рабцевич Владыслав, Савичевский Константы, Венжик Александр, Валэцкий Антони и Жмиевский Эугеньюш85. Прекрасная молодежь, внешне и внутренне, телом и душой. Учились много и хорошо. На каждого из них, едва окончившего учение, едва начавшего работать, свалилось несчастье и загнало в Сибирь. Некоторым из них, таким как Савичевский, Краевский, Жмиевский, не исполнилось и 20 лет. Переход от Варшавы до Нерчинска совершали с такой веселой покорностью, будто предприняли добровольную тяжелую прогулку. Шли с большими удобствами, чем мы, ибо их так не обобрали, как нас в Киеве. Поэтому у каждого были белье и одежда и немного монеты в кармане. Пересекая Байкал, пародировали песнь Бохдана Залеского о Мазепе86, которую цитирую как образец грустно-веселого настроения этих симпатичных молодых людей:
Простись, полька, с идеалом!
Не текут обратно реки,
Твой любимый за Байкалом,
Не придет к тебе вовеки.
Далеко, среди буряток,
Найдет счастье и достаток.
Они знали о времени нашего прибытия. Вскоре услышали барабан приближающейся партии, выбежали все на улицу, сущие весенние мотыльки, которым красочные крылышки прихватило чужим морозным ветром. Приоделись по-праздничному в черные сюртуки, наварили еды, чтобы нас, голодных, угостить, и с юношеской живостью приветствовали нас и обнимали как давние наилучшие знакомые. Ведь общая горькая доля сближает ссыльных и объединяет лучше и более чистосердечно, чем самые близкие и длительные отношения в обыденной жизни. Оживление началось неописуемое. Как искры посыпались веселые шутки, остроумные рассказы, беспорядочные, но занятные подробности о пережитом путешествии и неуверенные, понаслышке, сообщения о том, что ждет нас на рудниках, какой будет наша жизнь. Замороченный этим круговоротом, офицер не знал, что предпринять, и, сломленный радушием, покорно предоставил нам возможность беспрепятственно беседовать несколько часов. Наконец, подошло время, взаимное «до свидания» прозвучало более десяти раз. И вот, немного спустя, стали мы все часто видеться друг с другом.
Через пару дней вошли мы в Главный Завод, столицу Нерчинских рудников. Там жил главный начальник, горный инженер-полковник Татаринов87. Там была вся администрация и юрисдикция. Завели нас в главную контору, похожую на все конторы во всей России. Несколько оборванцев, сидящих за столами в просторной комнате, покусывали перья. В другой комнате три чиновника в мундирах проводили заседание. Сперва проверили наши фамилии, а вслед за этим приказали сбрить усы. Поскольку царь Николай не любил усов, то и Татаринов считал своей обязательностью также не побить их. Явились цирюльники, и наши усы упали в мгновение ока. На загорелых лицах появились под носами белые пятна, это нас так обезобразило, что без смеха не могли мы смотреть друг на друга. По завершении этой архиважной процедуры успокоенная власть приказала разместить нас временно в довольно большом доме, принадлежащем поляку, сосланному после войны 1830 года. Был он родом из Варшавы, портной по профессии, так что имел заработок и дела у него шли неплохо. Фамилии не помню.
Вскоре началось распределение. Начали развозить нас по нескольку человек на разные заводы и рудники. Не зная будущего, не зная, что нас ждет, прощались мы друг с другом с глубокой печалью, будто надолго, будто навсегда. Троих из нас — Адольфа Рошковского, Фортуната Грабовского и меня — направили на рудник в 12 верстах от Большого Завода, называемый Горная88.
Это была довольно живописная деревня, расположенная на склоне холма. На вершине холма был рудник — шахта для добычи руды, содержащей серебро, одна из самых богатых в данной области. День был унылый и слякотный: шел дождь со снегом. Конечный пункт ссылки, Горную, увидели мы 1 мая 1840 года.
Как же прошли два года жизни? 21 сентября 1838 года я был арестован. Полгода сидел в Киевской крепости. Сперва в одиночестве, потом дали мне товарища, студента Киевского университета Антони Янишевского. Он только что закончил математический факультет и, как отличник, направлялся на государственный счет за границу для завершения образования, чтобы затем получить профессорскую кафедру. Судьба завела его в тюрьму, а потом в вечные солдаты на Кавказ. Провел он там много лет, дослужился до высокого чина и в качестве отставного подполковника возвратился на родину, кажется, в 1858 году. Поселился в Одессе, где два года назад умер.
25 февраля 1839 года меня вывезли из Киева в Тобольск в сопровождении двух жандармов и с 20-фунтовыми кандалами на ногах. 1 апреля 1839 года в обществе семи товарищей вышел я из Тобольска вглубь Сибири, за все время непрестанного странствования прошел 4 500 верст и наконец 1 мая 1840 года очутился в Горной. Сколько же тягостей, нужды и голода осталось позади! Ночи в тюрьме, днем звон кандалов и циничные насмешки уголовников. Партия, в составе которой мы шли, состояла из ста с лишним арестантов. Во главе шагали приговоренные к каторжным работам, закованные в кандалы! У каждого из них на совести были убийство, поджог или подделка ассигнаций. На лицах их не видно было ни грусти, ни тоски, ни тем более каких-либо внутренних терзаний. Наоборот, были они веселы, развлекались наилучшим образом. Не раз я собственными ушами слышал, как они, собравшись в кружок на этапном дворе, по очереди рассказывали о своих страшных деяниях. Рассказы эти перемежались с шутками и сатанинским смехом, а заканчивались обычно ужасающим преступлением, которое вызывало у слушателей вместо возмущения необъяснимое удовлетворение. Они верховодили в партии, никто не осмеливался им противиться. За ними шли сосланные на поселение в Сибирь и женщины, одни были осуждены за разные преступления, другие добровольно сопутствовали мужьям. Последние обычно сидели на телегах, многие с ребенком у груди.
У ссыльных негодяев в партиях есть свой тайный устав, и все ссыльные подчиняются ему безоговорочно. Ничего не делается без голосования и общего разрешения. Каждый получивший разрешение обкладывается податью. Например, желающий убежать просит разрешения. Общество выносит решение, определяет размер оплаты, указывает время и место побега. Или же двое похожих друг на друга мерзавцев хотят поменяться своими судьбами; тот, что на поселение, соглашается пойти на каторгу за определенную денежную плату. Изучают поэтому свое прошлое, меняются фамилиями при проверке и отвечают один за другого. Но чтобы это осуществить, оба просят разрешения.
Партия назначает оплату и дает соизволение. Каждая ссыльная женщина должна быть чьей-нибудь любовницей, но выбирать не может ни одна. Решает партия. Претендент платит подать, а партия именует его любовником. Если женщина сопротивляется, не хочет, то подвергается страшным преследованиям. Не раз видели мы ужасные изнасилования, совершаемые среди бела дня во время перехода. Подкупленные солдаты смотрят на эти преступления с полнейшим безразличием.
Объединение женщин и мужчин в одной партии было, несомненно, главной причиной бродяжничества и многочисленных преступлений. Говорят, что правительство спохватилось, и теперь женщины идут совсем отдельно. Такое изменение было необходимо и, несомненно, эффективно. Но хватит об этих мерзостях. Возвращаюсь к дальнейшим воспоминаниям.
Втроем мы, измученные и печальные, вошли в Горную. Завезли нас прямо к конторе. Верзила начальник конторы Березовский записал нас в какую-то книгу, велел стать под планку для замера роста и после этой процедуры объявил, что мы можем снять для себя квартиру. Тут же появился местный житель и пригласил нас к себе. Фамилия его была Портнягин. Ввел нас в небольшую, но отдельную квартирку и назначил месячную совсем незначительную цену. Поблагодарили мы Бога за такой приют, поскольку выбирать не было ни времени, ни желания. Четверть часа спустя вошел изнуренный болезнью и исхудалый, но приятной наружности земляк, по фамилии Крочевский, сосланный за политические дела 1833 года. Был он ксендзом в Люблинском приходе89. Ни намека на священнический сан. Одет он был в жалкую байку. Сел и начать рассказывать нам о своей печальной жизни. Не исполнял никаких священнических обязанностей. Ему это запретили. Раз в год видывал ксендза и слушал богослужение. Обучился сапожному делу и с помощью шила зарабатывал на жизнь. Умер несколько лет спустя от рака желудка.
Едва мы начали разговор с бедным бывшим священником, как в окно заглянул оборванец в красной шапке и громко воскликнул:
— Завтра в четыре утра в комендатуру.
— Что это значит? — спросили мы тревожно.
— Ха! Это первые проявления местного гостеприимства, — ответил Крочевский.— До рассвета вы должны прийти к конторе, стать в один ряд с каторжниками и отправиться делать, что прикажут. Но я по пути сюда видел, что приехал начальник рудников капитан-инженер Фитингов. Он добрый человек, может вам помочь; советую — идите сейчас.
Мы тут же немедленно пошли к местному начальнику, поручику Аникину. Недостойная почтения личность и, как мы позднее убедились, ничего не стоящая. После доклада нас впустили в комнату. Вышел к нам рослый, средних лет, красивый брюнет в офицерском мундире. В коротких словах изложили мы причину нашего появления. Он немного задумался, а потом вежливо сказал: «Придите, пожалуйста, завтра, в восемь утра. Постараюсь дать вам желаемый ответ».
Но завтра вместо комендатуры пошли мы к Фитингову. Он явно нас дожидался. Тут же приказал подать чай и трубки и начал беседу, будто мы были его гостями. В заключение сказал, что назначает нас в помещение для анализа проб, где дважды в неделю с 11 до 13 часов проверяют образцы добытой руды, то есть химическим способом определяют, сколько в какой руде содержится серебра, что занятие это для нас не будет обременительно, но даже может стать интересным и занимательным. А поскольку мы еще не освоились с местностью, то один из нас может оставаться дома, лишь бы двое других постоянно бывали на пробах. Было два брата Фитинговых, упомянутый Александр Христофорович и второй, Николай. Оба прекрасного, даже благородного нрава. Именно так я должен судить о них, потому что не только всегда были деликатны, но и помогали нам чем могли. Они помогали в переписке с отчизной, которая нам была запрещена, ибо мы, как умершие для общества, не имели права писать родным. Фитинговы отправляли письма, а ответные приходили нам на их адрес. Таким образом, Коссаковский, увлекающийся охотой, получил от сестер двустволку. Вспоминаю двух этих добряков с чувством глубокой благодарности.
Здесь я должен описать случай, доказывающий благородство Александра Фитингова и мою шальную неосторожность. По истечении некоторого времени, когда все мы начали уже жить свободнее и навещать друг друга, собрались мы сообща в Большом Заводе в день 29 ноября90. Оживленный обед проходил на квартире Бопрэ. После обеда, под вечер, отправили меня друзья к Фитингову с ответным визитом, поскольку он, когда бы ни приезжал в Горную, никогда не миновал нас. Просиживал с нами по нескольку часов, однажды даже крепко напился — надо признаться, что к рюмке имел немалую склонность. Встретил меня самым любезным образом и стал угощать наливкой. Выпил я рюмку, вторую, третью. При воздержании и молодых годах напиток подействовал, тем более что я никогда не мог пить много. Я хотел уже уходить, Фитингов задерживает и наливает еще. Будучи под хмельком, говорю ему: «Выпью, но давайте вместе выпьем за то, что я предложу, ведь у нас сегодня праздник, годовщина восстания 1830 года». Добряк поднимает рюмку и обращается ко мне: «Поздравляю с праздником». Обнялись мы, чокнулись. Выйдя на улицу и осознав, какую допустил глупость, как же благодарил я Бога за то, что охранил меня от беды, и моего Фитингова почти полюбил.
Благое и простое постановление Фитингова действовало недолго. Что-то произошло в Большом Заводе, что возмутило Татаринова. Сгоряча, а был он вспыльчив, приказал, чтобы полякам не давали поблажки, чтобы всех везде впрягали в работу. Совершенно неожиданно получили мы от Аникина распоряжение ежедневно ходить на рудник, от 8 до 11 часов утра. Правда, не требовали от нас настоящей работы, была это лишь проформа, однако достаточно досадная. Посреди площади, где складывали добытую из глубины земли руду, толкли мы ее молотками, как толкут камни на шоссе. И это продолжалось несколько месяцев. Вскоре Татаринов стал генералом и уехал на должность губернатора в Томск, а его преемник, полковник Родственный91, приказал всех нас освободить от работ. И с этого времени никто уже нам не досаждал. Жили мы спокойно и почти свободно.
Нерчинские рудники занимают площадь в несколько сот верст по окружности. Было несколько заводов, в которых выплавляли из руды серебро. Делалось это в больших специальных печах. Руда кроме земли содержала в себе серебро, олово и мышьяк. Сперва отделяли серебро с оловом, потом отделяли олово, а чистое серебро сплавляли в небольшие слитки, которые, опечатанные и взвешенные, отправлялись ежегодно в Петербург. Во время плавления руды мышьяк улетучивался и пары его распространялись в воздухе, а значительная часть оседала на стенах печей. Работа около этих печей была убийственной, мышьяк разрушал здоровье работающих, обычно начиналась отечность в груди, кожа лица желтела, и часто наступала смерть. Встречались крепкие организмы, которые переносили этот яд без последствий, но это были исключения. Для предотвращения слишком большой смертности каторжников, проработавших неделю возле печей, отправляли на вольный и чистый воздух, на работу в рудниках. Таких заводов было несколько. Прежде всего, Главный Нерчинский Завод, где была сосредоточена вся администрация и где была резиденция главного начальника. Завод Кутомара — туда сразу был отправлен Каспер Машковский. Завод Дучара — на него направили Валеры Коссаковского, Ожешко, Цырыну и варшавянина Валэцкого. Завод Газимур,— где, как я упоминал, собрана была варшавская молодежь. Вскоре эту молодежь расхватали на все стороны; они стали учителями детей чиновников. Был еще какой-то завод, но я забыл. Рудников было очень много, каждый принадлежал к определенному заводу и туда отправлял добытую руду. Отвозили ее крестьяне из многочисленных окрестных сел называли их подзаводскими, потому что они должны были выполнять определенные обязательные работы, вроде барщины92.
Вскоре после этого в Горную прибыл старик Маурыцы Кисель. Для четверых у Портнягина стало слишком тесно. Будучи уверены, что мы пробудем в Горной все 20 лет, стали мы думать о приобретении в собственность избы. Подвернулась изба сосланных на Кавказ татар. Были в ней сквозные сени, слева просторная кухня, справа две комнатки с печью-голландкой. В сенях кладовка, в кухне подпол, у дома небольшой двор, плохо огороженный, с плохим сараем, и не очень большой огород. Без долгих раздумий купили мы эту избу в общую собственность за 300 рублей. Итак, у нас был свой дом, куда вскоре прибыл пятый товарищ из Кутомары Каспер Машковский.
В дороге к Нерчинским рудникам, где нам, по-видимому, предстояло прожить жизнь, разработали мы определенные правила, вроде конституции, обязательной для всех, все пункты которой мы добровольно обещали выполнять. Конституция требовала: 1) безоговорочного повиновения местным властям, ни о чем не просить и выполнять все, что только будет приказано; 2) не избегать знакомства с чиновниками, но ограничиваться необходимостью, не доходя до дружеской фамильярности, которая может повлечь за собой панибратство и даже притеснения; 3) ни под каким предлогом не играть с чиновниками в карты; 4) по возможности объединяться, если власти разрешат, навещать друг друга и собираться как можно чаще, для этого каждый обязан был отмечать именины и все должны были на именины приходить; 5) из денег, поступающих с родины, каждый обязан был вносить определенный процент в кассу, так называемую кассу ссыльных, обязанностью выбранного кассира было вести точный счет, а касса предназначалась для помощи и снабжения товарищей, не имеющих никаких средств; 6) избегать, по возможности, близких отношений с местным прекрасным полом, что в диком и полном преступников крае было опасным и даже угрожающим. Правила эти точно выполнялись в течение всего времени пребывания моего на каторге. Каждое отклонение обсуждалось и резко порицалось на общих собраниях, назначаемых по такому поводу.
Мы в Горной устроились по принципу полного братского равенства. Все доходы, откуда бы и для кого бы из нас в течение года ни поступали, направлялись для удовлетворения наших общих потребностей. Мы решили не иметь никакой прислуги и все домашние работы выполняли сами. Так, Адольф Рошковский был кассиром и хозяином. В его обязанности входило: 1) собирать поступающие с родины деньги, вносить из них проценты в ссыльную кассу, а остаток записывать в приход нашей кассы; 2) ежемесячно получать причитающуюся от правительства сумму; так как каждый из нас получал полрубля серебром и два пуда ржаной муки в месяц, то получалось 10 пудов муки и два с половиной рубля на пятерых; 3) закупать и доставлять в дом все продукты питания.
Фортунат Грабовский получил под свой полный надзор двух купленных нами коров. Его заботой было следить, чтобы коровы были накормлены как следует и подоены. В его распоряжении были молочные продукты, он снимал сливки и сметану, делал масло и сыр. Он также ставил самовар, готовил чай и кофе.
Каспер Машковский был сторожем, он подметал избу, носил дрова для печей, топил печь, обогревающую комнаты, и кормил двух поросят.
Я был поваром, готовил обеды, просеивал муку и пек хлеб, делал закваску, мыл кухонную посуду и все помещение кухни содержал в чистоте.
Маурыцы Кисель как ветеран был освобожден от работы и жил на всем готовом. Соседка, бабка Ивановна, доила коров и носила воду, ибо колодца не было.
Организованная хозяйственная машина функционировала хорошо и всё лучше. Каждый из нас набирался опыта, обязанности свои выполнял всё проворнее и тщательнее. Ни одна ключница не могла бы старательнее присмотреть за молочными продуктами, собрать сливки, чем Грабовский. Коровы всегда были накормлены, зимой хлев был старательно выстлан, коровы выглядели так, будто их намеренно откармливали, а молока давали уйму. Я поначалу куховарил неумело, но вскоре дело пошло на лад. Готовил я бульоны, борщи, другие супы, котлеты и бифштексы, лапшу и вареники и т. д. В выпечке хлеба я достиг почти совершенства: хлеб был не только всегда хорошо пропечен, но я еще и умел придавать ему разнообразную форму, круглую и продолговатую, большую и меньшую. За качество хлеба началось соревнование между Горной и Большим Заводом, где заведовал кухней и кормил товарищей Бопрэ.
Все было заключено в рамки порядка и почти военного режима. Малейшее уклонение немедленно бывало замечено. Развились крепкие товарищеские отношения. Это давало определенные права и налагало обязанности, которые выполнять надо было непременно. Отсюда иногда возникали щекотливые ситуации, зачастую очень забавные. Машковский, например, никогда не мог спокойно переносить ни малейшего напоминания, а тем более замечаний, касающихся его сторожевой службы.
«Каспер,— скажет кто-нибудь из нас,— посмотри, сколько ты оставил мусора». Тотчас начинает он кричать и доказывать, что подмел самым наилучшим образом. Мало того, эти доказательства, бывало, длились по три дня и так нам надоедали, что зачастую мы предпочитали сами исправлять его работу. Превосходный был человек, но оригинал каких мало. Сколько было связано с ним комичнейших сцен! Всегда можно было вывести его из себя, договорившись между собой, что мы умышленно с этой целью будем говорить то-то и то-то. В пять минут Каспер был уже готов, а мы умирали со смеху. Аппетит у него был безумный. Как-то заключил со мной пари, что съест полкопы93 крутых яиц, приготовленных с фаршем. Приготовил я ему яйца очень тщательно, как было оговорено в пари. Помню, как было забавно, когда он это блюдо уничтожал. В конечном счете он проиграл, однако съел более 20 яиц. Утренний кофе пил из большой кастрюли, не отцеживая гущи. Хорошо размешав, проглатывал все сразу,— а был это кофе из жареного ячменя, ибо настоящего, слишком дорогого, не было у нас никогда. Он жив до сих пор, и, несмотря на 70 лет с лишним, желудок его сохранил свои непомерные способности.
Вскоре в этих местах проявилось наше явное умственное и моральное превосходство. Было нас более 30 человек, более-менее одинаково воспитанных, привычных к лучшей жизни, к лучшим формам общения. Многие среди нас обладали высшим образованием и талантами. Местные чиновники нашли средство воспитания детей, притом средство ни какое попало. С властями сложились более близкие отношения и всегда с перевесом на нашей стороне. Дети делали в учебе явные успехи, отсюда благодарность родителей. Домики, что мы покупали, приобретали все более опрятный вид, вокруг них вырастали усадьбы и палисадники. Жители восхищались и проявляли желание подражать. Часто собирались мы большими группами, по 20 и более, ибо все именины, все народные памятные дни мы должны были отмечать совместно. Сперва это беспокоило власти, а жителей интересовало, что же будет твориться в таким многочисленном обществе? Старались скрытно разузнавать, разведывали в шинках, сколько поляки закупили водки, сколько заказано женщин, потому что без этих двух скверных условий не представляли себе веселого общения. Разведка всегда убеждалась, что водки куплен был только один штоф94, а женщин не было вовсе. И однако неустанный гомон, громкие разговоры и пенье слышал каждый прохожий. «Странный народ эти поляки», — говорили простолюдины. «Порядочные люди,— говорили некоторые горные инженеры,— вместо того чтобы стеречь их, следовало бы брать с них пример».
Так развернулась свободная и единая жизнь. Разбросанные по заводам и рудникам, навещали мы друг друга очень часто. Сноровка в пешей ходьбе была у нас хорошая. Прогуляться 15 или 20 верст было делом простым и неутомительным. Только усиливался аппетит. Каждые именины ожидались с нетерпением; каждый, кто мог, поспешал на них. Наш дом в Горной так был расположен, что из него видны были все окрестные возвышенности и вьющиеся по ним тропы. Ежегодно было пять именин, даже шесть, так как праздник старичка Людвика Янишевского приходился на 25 августа, на следующий день после моих именин, поэтому его отмечали также в Горной. За два дня до этого в нашем доме подготавливалось все для приема многочисленных гостей. Пусть не изысканно, но вволю следовало накормить, ведь молодые желудки не знали несварения. Так что я готовил в двух чугунках густой холодный борщ, жарил мощные жаркие и поросят, делал пельмени, вареники с творогом или клецки. Фортунат Грабовский лихорадочно управлялся с молочными продуктами, собирал самовары, а Машковский подметал дом и двор. Большие сквозные сени служили столовой, там устанавливали простые столы и табуретки. На столах несколько буханок хлеба, глазурованные миски и деревянные ложки, ножей лишь несколько — больше у нас не было. Каждый гость извлекал собственный нож, это напоминало старинные обычаи.
Съезжались обычно накануне вечера. На холмах появлялись телеги, шли пешие, конные. Стоя на крыльце, мы издали узнавали идущих и едущих. Наконец, приезжали. Начинался гомон, оживление неописуемое. Одни здороваются, другие заводят коней во двор. Каспер Машковский в качестве смотрителя показывает колодец и ведет скакунов к воде. Грабовский суетится возле самоваров, а соседи с интересом глазеют. После такой вступительной суматохи начинается чаепитие. Пьет шляхта вприкуску и хлеб ест. А при этом завязывается беседа на темы самые разнообразные, нескончаемые. Казалось бы, устали все и захотят отдохнуть. Какое там, лишь после полуночи общество начинает редеть. В сени приносят солому и на ней располагаются. Всем мягко, удобно, спят как убитые. С утра сами выносят постель, сени в мгновение ока подметены, все хорошо, все в порядке.
В день именин обед простой, питательный и, главное, приправленный молодым воодушевлением и естественным аппетитом. Затем разговоры, обмен новостями, полученными с родины, отсюда и бесконечные чувствительные воспоминания, надежды на будущее, надежда на приезд жен к мужьям, планы обустройства семейных домов. В некоторые минуты воцарялось молчание, раздавались вздохи и слезы блестели на глазах у многих. Так проходили все встречи. На следующий день утром нагостившиеся и мечтательно настроенные скитальцы разъезжались, оговорив очередные именины, всегда с нетерпением ожидаемые. Эти наши собрания в самом деле были очень сердечны и благотворны. Создавали искреннюю и действительную сплоченность, укрепляли дух и в то же время контролировали жизнь всех и каждого. Была в них какая-то возвышенная поэзия, которая до сих пор озаряет мои воспоминания. Пребывание на Нерчинских рудниках осталось в моей памяти наряду с неугасимым чувством уважения и дружеского расположения ко всем ссыльным сотоварищам. Мало нас уже осталось. Большинство сошло в могилу. Мы, еще живущие, разбросанные по свету, занятые повседневными хлопотами, редко можем собраться вместе. Однако, несмотря на это, в моей душе по крайней мере, сохраняется братская любовь ко всем товарищам по изгнанию, и так будет до конца дней моих.
На Нерчинских рудниках мы застали много земляков, сосланных за войну 1830 года. Одни были солдатами в батальоне и в инвалидной роте, другие на каторжных работах. Эта несчастная среда, не объединенная прошлым, разнородная по воспитанию и семейным традициям, не имеющая никаких связей с родным краем, познала горькую судьбу и пропадала. Некоторые переженились на местных девушках и навсегда стали сибиряками; иных нужда заставила пойти в батраки к крестьянам; немногочисленным ремесленникам было легче. Лишь некоторые из них выстояли в невзгодах и сохранили первоначальный, неискаженный характер. Таким был известный в истории полковник Пётр Высоцкий. Все знали, что при взятии Варшавы в 1831 году, тяжело раненым, он попал в плен, а затем был сослан на каторгу. Поначалу был в Усолье. Товарищи пытались его оттуда вызволить, но побег не удался. После телесного наказания Пётра и его сообщников отправили в Нерчинск. Пётра определили в Акатуй. Так называется рудник, в котором есть тюрьма для самых значительных преступников. Я не познакомился с ним лично, не имел возможности и времени. Познакомились с ним и навещали его позже в Акатуе мои товарищи. Там же вместе с Пётром находился Винценты Хлопицкий, племянник генерала. Привязанность Винценты к Пётру была необычайной. Он никогда не отходил от него, помогал ему с образцовым самопожертвованием. Вдвоем устроили мыловарню, делали хорошее мыло, которое пользовалось спросом и находило сбыт. Вдвоем собственноручно построили дом и вместе жили95. Известно, что после амнистии возвратился на родину и благородный Пётр Высоцкий. Вместе с ним вернулся Винценты Хлопицкий, но в родном краю они вынуждены были расстаться. Пётр поселился в Королевстве, в Варке96. Винценты же остался на Волыни, в Пулинах под Житомиром. Умер он там, оставив жену и единственную дочь Марию почти в бедности. Обе живут сейчас в Житомире, я их часто вижу.
Третьим таким изгнанником был Мальчевский, майор саперных войск. Отличился он со своими саперами ночью 29 ноября 1830 года, а попав в плен, также был отправлен на Нерчинские рудники. Застали мы его в Большом Заводе. И хотя находился он в большой нужде, но духом не пал. Легко влился в наше дружеское общество, и было ему там хорошо.
На руднике Благодатском, в двух верстах от Горной, жили двое бедняг. Савицкий, который, будучи учащимся в Мендзыжечи на Волыни, присоединился к восстанию полковника Ружицкого, и Солэцкий, также очень молодой, который позже женился на крестьянке, а впоследствии возненавидел ее. Бедная женщина часто бывала у нас в Горной, стирала наше белье и оплакивала свою печальную судьбу. В Горной кроме ксендза Крочевского жил каменщик Франчишек Котовский97.
Этот простой человек непоколебимо верил, что возвратится на родину, что еще будет счастлив со всеми земляками. Постоянно ожидал быстрого и чудесного освобождения. Назначал сроки, а когда они проходили, спокойно назначал следующие и следующие, всегда с неизменной уверенностью. Он также получал самые забавные известия, о которых нам доверительно сообщал. Зачастую входит пан Франчишек с довольной физиономией.
— Как дела, пан Франчишек? Что нового?
— Идет,— отвечает он тихонько,— и может, через неделю придет.
— Кто такой? — спрашиваем.
— Неизвестно. Одни говорят: белый араб, другие говорят: Константин.
Надо сказать, что еще и в то время во всей Сибири среди населения распространена была уверенность, что великий князь Константин жив и с минуты на минуту явится98.
Вот Франчишек и верил этой сказке. Наш невольный смех смущал беднягу. Возмущался, что мы не верим таким вещам. Так и умер этот честный человек, не дождавшись освобождения. В Большом Заводе находились еще Хольштейн и ксендз Богуньски99, коллега ксендза Крочевского. Первый давал уроки и играл на скрипке. Испытывал большую нужду, был слабого здоровья, однако дождался возвращения на родину. Второй утонул в реке Шилке во время рыбалки.
В те времена на всю Сибирь было лишь два небольших католических костела, в Томске и в Иркутске. При каждом — два священнослужителя, ксендз и викарий. Одновременно были они и военными капелланами. Ежегодно они объезжали свои обширные приходы, заезжали во все города и городки, где были военные команды, ибо в каждой находились солдаты-католики. Ксендза ожидали с большим нетерпением, и его появление становилось торжественным событием для ссыльных. Все спешили исповедоваться, слушать богослужение! Трогательны были эти богослужения.
Зимой 1840 года на Нерчинские рудники приехал иркутский настоятель, ксендз Хачиский. Власти назначили большой дом в Главном Заводе для проведения богослужения.
Устроили алтарь, в украшении которого каждому хотелось принять участие. Приносили коврики, подсвечники, восковые свечи, иконки. С утра ксендз исповедовал многочисленных грешников и проводил богослужение. Под вечер были короткие вечерни. Во время литургии за неимением органа мы отвечали священнику пением. Был создан квартет из неплохих голосов. Рабцевич вел бас, Жонжевский сопрано, я был тенором, Цырына отлично вторил. Исполняли мы «Когда утренние всходят зори» на прекрасный мотив, сохраняемый в нашей среде. Наше пение привлекало инженеров. Слушали как на концерте. Некоторые, как, например, майор Таскин100, меломан, не пропустили ни одного богослужения. После мессы мы забирали священника на обед, угощали его не изысканно, но гостеприимно и искренне. Так прошло более десяти дней, и попрощались с настоятелем до встречи не ранее чем через год.
Так протекала тоскливая жизнь каторжников. Обязательная физическая работа поддерживала и укрепляла здоровье. Частые наши сборы укрепляли дух, хранили от морального упадка. Письма и денежная помощь с родины разжигали и оживляли тоску и любовь к родному краю и к оставленным женам и семьям. Постепенно создавалась общая библиотека ссыльных, которая постоянно пополнялась сочинениями серьезного и поучительного содержания. Затем возник проект свободного хозяйства. Бопрэ с Подлевским купили хутор недалеко от Большого Завода. Выросли строения и добротный домик. Неизвестные там прежде плуги начали взрезать землю. Семена пшеницы были доставлены из Сандомежа101. В течение нескольких лет хутор расцвел; в нем работало несколько батраков, коней и скота было достаточно, и прибыль росла год от года. По нескольку тысяч пудов зерна закупало правительство. Кароль Подлевский принадлежал к варшавской молодежи, только прибыл на рудник позже. Попал на каторгу, едва закончив учебу. Превосходный это был и способный юноша. С его братом мы были товарищами в кременецких школах, а в 1836 году встретил я его в Берлине и мы подружились. Младший, Кароль, о котором здесь речь, стал мне товарищем по ссылке. Сперва учил детей чиновников, потом взялся за хозяйствование на хуторе.
Женился он на Нерчинских рудниках на панне Брынк, дочери товарища Ежи Брынка, приехавшей к Ежи вместе с его женой. В эту барышню до смерти влюблялись почти все неженатые ссыльные. Панна выбрала Подлевского, а иркутский настоятель этот союз благословил. Оба возвратились на родину с группкой детей и в настоящее время живут в Кракове. Состоялась и вторая свадьба. Самый старший по возрасту среди варшавской молодежи Владыслав Рабцевич перед ссылкой был обручен с панной Катажиной Непокойчикувной из Литвы. Не изменившая своей привязанности панна приехала в Иркутск. Владыслав, получив разрешение местных властей, помчался в столицу Восточной Сибири, обвенчался в Иркутском костеле и вместе с женой вернулся в Нерчинский Завод102. Обе свадьбы состоялись уже без меня, ибо в моем положении произошло неожиданное изменение.
17 июня 1841 года прошло многолюдное собрание товарищей в Горной по случаю именин Адольфа Рошковского. Как обычно, для приема дорогих гостей заранее был подготовлен обильный банкет. Вечером Пётр Боровский, у которого тогда уже была обязательная работа103, уехал в Главный Завод, а мы все беседовали до позднего времени. На следующий день ранним утром прибежал посыльный от Пётра с письмом такого содержания: «Ручиньский и Янишевский освобождены от каторжных работ и вызываются в Иркутск. Приказ губернатора пришел вчера. Пусть Юстыньян срочно прибудет в Завод, так как власти хотят отправить их как можно скорее». Известие это нас, собравшихся, поразило, как бомба. Что это значит? Только ли двоих? Пётр пишет неясно. Надо убедиться. Такие и тому подобные слова переходили из уст в уста. Волнение было всеобщее. В тот же час все двинулись к Заводу. Остались я, Рошковский и старик Кисель. Через несколько часов местный начальник прислал приказ, чтобы я немедленно выехал в Завод. Едва успел я собрать немногочисленные пожитки, проститься с нашим домашним уголком, к которому уже успел несколько привыкнуть. В Большом Заводе я застал страшную спешку. Случилось так, что начальник Родственный куда-то выехал. Временно замещал его помощник, майор Черниговцев, тупоголовый и большой трус. Царский приказ поверг его прямо-таки в лихорадочное состояние104. Напрасно просил я дать пару дней отсрочки, мотивируя необходимостью подготовиться к дороге и попрощаться с товарищами. Бесполезно. В течение десяти часов выгнал он нас, выбросил из Завода, как из пращи. К домику Бопрэ подъехала почтовая кибитка, явился казак, который должен был нас сопровождать, вооруженный палашом и пистолетами. Окруженный толпой товарищей, шел я пешком до конца Завода. У каждого было какое-то пожелание, каждый просил написать его семье, если мне разрешат писать из Иркутска. Наконец, наступила минута прощания. Со слезами обнимал я их, также прослезившихся, каждого по очереди, с глубоким чувством, так как не знал, где, когда и с кем из них снова встречусь.
Происходило это, насколько я помню, 20 июня 1841 года. Да, несомненно так, ибо в этот момент нахожу я среди сибирских записок листок, на котором записаны моей рукой расходы мои и Людвика Янишевского во время переезда с Нерчинских рудников в Иркутск. В самом его начале я пометил: «Выехали из Большого Завода в пятницу». Такая ничего не значащая записка сегодня, по истечении 37 лет, мне приятна и интересна. Даже полезна, ибо помогает восстанавливать подробности этого путешествия, о которых без нее я бы не вспомнил.
14 месяцев, проведенных в Горной среди добрых товарищей, составляют в изгнании период, о котором до сих пор сохраняю в душе грустные, но приятные воспоминания. Следующий период, который для меня начинался, был тяжелым и мучительным: вырванный из среды друзей, я осиротел, стал полностью одиноким. И так прожил я более полутора лет.
Отправились мы по знакомой уже дороге, пройденной по этапу. Ехали почтой, отдыхая по мере желания и потребности. Пан Людвик был уже старичком лет 70. Следовало соблюдать большую осторожность, чтобы сохранить его силы и здоровым довезти до Иркутска. Я усердно за ним ухаживал, ехали мы не спеша, ночевали регулярно, кормил я его главным образом молоком и с Божьей помощью благополучно довез. Привязался он ко мне, как дитя к няньке. А когда затем судьба нас разлучила, писал мне постоянно и часто до самой смерти. Не дождался, однако, возвращения на родину, умер в Иркутске.
В записках, что лежат передо мной, читаю: первый ночлег был у нас в деревне Зелентуй, второй — в волости Солонцы. Здесь встретила нас неприятная неожиданность. Казак подъехал к дому горного чиновника, ведающего этой волостью. Сняли наши вещи, чиновник этот проверил их самым тщательным образом. Такие проверки делали затем городничие в городах Нерчинске и Верхнеудинске. Первый проводил обыск довольно условно, поверхностно, даже пригласил нас на обед. Другой, армейский майор, издевался над нами. Приказал нам раздеться до рубах, копался в нашем старье, а в дополнение к этому поставил караул и держал нас, будто в тюрьме. Упросили мы нашего казака ускорить выезд и убрались как можно скорее. Эти неприятности произошли из-за труса Черниговцева. Это он отправил почтой официальное распоряжение властям на нашем пути, чтобы везде нас обыскивали. Чего он опасался, в чем нас подозревал — угадать невозможно. Сам он имел, как говорили, значительный запас ложек из местного государственного серебра, возможно, предполагал, что и мы способны на подобное воровство. Никто ничего у нас не нашел, потому что ничего не было. Не имея за собой вины, переносили мы эти отвратительные процедуры молча. Городничий Верхнеудинска нашел в моем сундучке довольно большую тетрадь, исписанную по-польски и по-французски. Не зная этих языков и полагая, что поймал нечто важное, отправил всю тетрадь с особым рапортом иркутскому губернатору, который позже отослал мне ее обратно.
Третий наш ночлег был в волости Тайная. Рядом с этой волостью расположен завод Газимур, где еще находился варшавянин Эугеньюш Жмиевский105. Зашел я к нему и провел там с ним всю ночь. После этого ночевали мы в Бянкине над Шилкой, где жили упомянутые выше старики Кандинские106.
Миновав город Нерчинск, доехали мы до Кайдатной. Эту волость запомнил я прекрасно. Почтовая станция стоит над прекрасной рекой Ягодой107. Подъезжая, увидели мы двух казаков, сидящих на крыльце. Оба были вооружены, поэтому я сразу догадался, что кого-то сопровождают. И вот едва я спрыгнул с брички, как отворились двери в избу и в них появился довольно рослый и молодой еще мужчина с массивными кандалами на ногах. Это был Хенрык Голеевский из Подолии. В 1831 году после войны он эмигрировал и потом тайно возвратился на родину. Полиция его выследила. Признанный эмиссаром, он был приговорен к каторжным работам. Как очень важного преступника везли его почтой до самых рудников. Я никогда не был с ним знаком, никогда о нем не слыхал. Знакомство произошло моментально. Всю ночь не сомкнул я глаз.
Пан Людвик спал наилучшим образом, а мы рассуждали до бела дня. Рассказал мне Хенрык всю свою историю, а я ему, в свою очередь, рассказал о Нерчинских рудниках, о товарищах, о жизни, что его ждет. Утешил его и ободрил.
Был он уже очень глухой. Просил, чтобы я написал его сестре Леокадии о куске корабельного каната, якобы помогающем от глухоты, что я и сделал при первой же возможности108. Я дал ему по-дружески несколько рублей, так как ему уже не на что было купить хлеба. Расстались мы после утреннего чая. Он также возвратился на родину, жив и живет сейчас в Подолии. Несколько раз был у нас в Житомире. Глухой совершенно, хоть стреляй. К счастью, любит много говорить, а поскольку видел немало и имеет большой опыт то рассказы его зачастую интересны. Облегчает это беседу и сберегает другим легкие.
Продвигались мы далее снова через Яблонные горы, Читу, бурятские степи, Верхнеудинск, наконец 1 июля приехали к Байкалу, вернее к реке Селенге, впадающей в Байкал. Там находится большой волостной центр Кабанск, застроенный как городок. Мы попали на ярмарку. На большой площади в расставленных палатках купцы продавали различные товары, вокруг них толпились крестьяне и крестьянки. Шум и гомон напоминали торги в наших местах.
В Кабанске сидели мы целую неделю. Перевозное судно пришло от Иркутска через два дня после нашего приезда, но несколько дней на него грузили большое количество железа. 8 июля завели нас на судно. Из кабанского порта вышли мы под вечер. Не далее чем через две версты Селенга впадает в Байкал. Вид прелестный. Есть у меня этот вид, сделанный в натуры Леопольдом Немировским109. Время было прекрасное. Попутный ветер обещал хорошее плавание. Но случилось, однако, иначе. Когда мы вышли в Байкал, наступила ночь, но ночь летняя, ясная и теплая. Поставили паруса, судно быстро продвигалось вперед. Все пассажиры уснули, заснул и капитан, а его примеру последовали матросы и рулевой. Оставленное без управления судно развернулось наперед и носилось на свободе целую ночь. Лишь на рассвете проснувшаяся команда привела все в порядок. Но время было упущено, ибо мы потеряли несколько часов самого благоприятного ветра. Вскоре ветер переменился, стал сильно дуть с другой стороны. Поднялись волны и начали сильно швырять судно. Три дня мучились мы немилосердно. У меня началась морская болезнь, казалось, испущу дух. Болели и другие пассажиры, один лишь мой товарищ, старичок, здоров был вполне.
В конце концов после невыносимых трех дней приплыли мы к берегу. Ступив на землю, я ожил, но еще потом целую неделю моя голова шла кругом. Будто в вознаграждение за неприятное плавание у самого берега Байкала встретило меня утешение. Мой знакомый по Нерчинским рудникам горный майор-инженер Таскин провожал из Иркутска на Байкал профессора Петербургского университета, действительного статского советника Купфера, который ехал в Нерчинский край для опытов с магнитной стрелкой. Едва меня заметив, вежливо поприветствовал и вручил мне письмо от моей жены, недавно написанное. Каким образом это письмо к нему попало, почему оно было при нем, совершенно не помню. Помню лишь, что очень обрадовался и в лучшем настроении приближался к Иркутску. А ехал я вместе с Таскиным, он пригласил меня в свою бричку.
В Иркутске сопровождающий нас казак подъехал прямо к дому губернатора. Как я уже упоминал, это был Пятницкий. Сразу сказал, что вызвал меня в Иркутск по просьбе моей жены, от которой получил письмо, и был так любезен, что показал мне это письмо. Итак, ее неутомимая бдительность и забота обо мне распространялись повсюду. И доходили они своевременно почти чудодейственным образом. Приказ об освобождении меня от каторжных работ и письмо моей жены Пятницкий получил почти одновременно и тут же издал соответствующее распоряжение. И это было подлинным благодеянием, потому что поселение за Байкалом, в безлюдном краю, удаленном от всякой власти, стократ тяжелее каторжных работ. По-видимому, каким-то предназначением моим было преодолевать первые препятствия, переносить первоначальные трудности, быть предметом чрезвычайных, досадных распоряжений. После выезда с Нерчинских рудников меня мучили обысками, чего впоследствии не узнали мои товарищи. Когда я прибыл в Иркутск, никому тогда еще из политических ссыльных нельзя было жить в городе, в то время как потом все мои товарищи спокойно жили в самом Иркутске. Правда, в городе жили Немировский и Лесьневич, но первый учил рисованию детей губернатора Руперта, а второй строил для него же летнюю резиденцию за городом. По этим серьезным причинам для них было сделано исключение из общего правила. Так что меня выслали в близлежащую деревню Щукино, расположенную верстах в 15 по тракту от Иркутска в сторону Байкала. Со мной выехал и старик Янишевский. Деревня была небольшая и бедная. Кое-как нашлось сносное убежище для пана Людвика. Для себя снял я безобразную избу, так тоскливо и плохо мне в ней было, что даже вспоминать о ней не люблю. Было это в середине июля. Все жители заняты работой в поле, деревня совершенно пустая, никакой помощи, даже дров я не мог получить и для приготовления пищи вынужден был носить ветки из ближнего леса. Для развлечения, для ознакомления с местностью выходил я на прогулку. Идучи однажды по берегу Ангары, увидел я невдалеке другую деревню, такую же неприглядную. На завалинке одной несколько более опрятной избушки сидел крестьянин. Подошел я к нему и начал беседу. Деревня называлась Крижановщина, а моего собеседника звали Иван Алексеевич Чернов. В избе я увидал маленькую, но отдельную комнатку, которая мне понравилась. Чернов охотно сдал мне ее, и на следующий день я сразу туда переселился. И жил в этой избе одиноко до конца пребывания в Иркутской губернии.
Этот крестьянский домик стоял над самой Ангарой, берег ее в этом месте был совершенно пологий. Противоположный берег, крутой, покрытый прекрасной зеленью, представлял собою вид чарующий. Посредине домика были входные сени, разумеется холодные. В глубине дверцы в маленькую кладовушку. Справа горница, в которой жили хозяева, налево горничка моя. В ней было два окошка, одно с видом на Ангару. Вглядывался я в прелестный пейзаж. Трогал он меня невыразимо и тоску доводил почти до экзальтации. Справа от входа стояла печь, перед ее отверстием под вторым окошком — небольшое подполье, очень удобное; в нем я хранил недельные запасы продуктов. В углу между окон я поставил простой столик с запираемым ящиком и с самоваром, купленным в Иркутске. У двери рядом с печью две доски на деревянных опорах служили мне кроватью. Холщовый сенник, сложенный вдвое, лежал в углу слева от входа, на нем кожаная подушка и кожух, все с утра тщательно прикрывалось старым пальто, прибывшим со мной. Помещение это было в шесть шагов длиной, пять шириной. А место было достаточно, ибо движимого имущества — почти никакого. В саквояже из рекрутского сукна было у меня немного белья и одно приличное платье, которое прислала мне жена. И это все.
Я решил обслуживать себя сам и не пользоваться помощью по двум соображениям: прежде всего, у меня не было средств, во-вторых, я по опыту знал, что физическая работа п механические занятия отвлекают от тяжких размышлений, что при одиночестве, к которому приговорила меня судьба, они необходимы. Поэтому с утра я ставил себе самовар, потом готовил обед, в чем я уже приобрел сноровку, постоянно поварничая в Горной. Хозяин доставлял мне дрова и воду, больше ничего. После обеда я писал письма жене, родным и товарищам, читал поэзию Бохдана Залеского, нашедшуюся в саквояже, и без конца размышлял.
В этой неизменной тишине и одиночестве, в тяжелых и необычных условиях жизни мысли мои приобретали последовательность и какую-то необычную ясность. Подробности далекого и близкого прошлого, разные происшествия в жизни, различные мои поступки четко вырисовались в памяти и постоянно вызывали волнения. Во мне происходила как бы непрестанная внутренняя исповедь. С течением времени и по мере все более длительного одиночества такое состояние моей души развивалось все сильнее. Казалось мне, вернее, ощущал я, что со мной и около меня кто-то находится, слышит мои мысли и на них отвечает, что с помощью этого я предчувствую, предвижу, что мгла, скрывающая будущее, на мгновение развеивается. И от этого охватывали меня тревога и печаль либо успокоение, полное сладких, трогательных надежд.
Однажды, подсчитывая расходы, я увидел, что в кассе моей остается едва несколько рублей. Встревожился я очень, ибо вскоре следовало ждать голод и нужду, поскольку в это время не мог я еще ожидать помощи из дому. Когда я так сидел в глубокой озабоченности, будто бы кто-то шепнул мне на ухо: «Пойдешь в субботу в Иркутск и найдешь деньги». И тут же, неосознанно, стал я так спокоен, что помимо воли начал думать о чем-то другом. В субботу пошел в город, и первыми словами Леопольда Немировского были: «Поздравляю, тебе в губернской канцелярии письмо и деньги». Тогда я припомнил, что об этой неожиданности был предупрежден, что почти знал о ней. Письмо было от моего брата Александра. Узнав, что я освобожден от работ, прислал мне 25 рублей серебром. Это для меня в то время была сумма значительная. Возможно, не один ученый доктор скажет, что состояние мое было болезненное, а нервная система возбуждена. Не хочу с ними спорить, они знают больше, чем я. Скажу лишь, что в то время как они теоретически резонерствуют, ведя несомненно полезную, но обыкновенную жизнь, я в своей необычно горькой доле на деле узнал сверхчеловеческую поддержку. И верю, ибо знаю, что это было явным признаком высшей опеки надо мной, ощутимое проявление Провидения. По-видимому, были у меня тогда какие-то заслуги, возможно, испытываемые невзгоды несколько очистили меня от разнообразных грехов. Я должен был стать лучше, если рядом со мной был Бог. Сейчас я снова возвратился к обыденной жизни, опять забочусь о хлебе насущном, зачастую забывая, что не хлебом единым должен жить человек. Так что покров святости, в то время слегка прозрачный, снова задернулся полностью.
Ознакомившись с окрестностями, нашел я с одной и с другой стороны недальних соседей. Со стороны Байкала в Щукине остался старичок пан Людвик, которого я часто навещал во время обычных пеших прогулок по берегу прекрасной летом Ангары. Верстах в 12 жил на хуторе Панов, тот Панов, у которого мы с Волконским пили чай на пути в Нерчинск. Каждую неделю регулярно ездил он к знакомым в Иркутск и почти всякий раз навещал меня. Я отдавал ему визиты редко, ибо пешком было далеко, а нанимать лошадей было не на что. Со стороны Иркутска в деревне Разводной, верстах в пяти жили декабристы Артамон Муравьев и Юшневские110, в удобных собственных домах.
Домик Муравьева, небольшой, но щегольской, стоял на высоком берегу Ангары и вид имел прелестный. Я знал Муравьева раньше, он посещал нас в Иркутской тюрьме. Вежливость требовала побывать у него и передать слова памяти от товарищей.
В первый раз застал я его нездоровым. Сидел он в меховом шлафроке и стонал, ибо донимал его артрит. Высокого роста, полный, с седой кучерявой шевелюрой, с могучими седыми усами и бакенбардами. Родная сестра его была замужем за Канкриным, министром финансов111. Портреты этих известных лиц висели на стене. Как говорили мне его товарищи, был он добросердечен, но легкомысленного и слабого характера. Без компании жить не мог. Ежедневно ездил в город, где у него было много знакомых. По возвращении заходил к Юшневским и очень комично рассказывал в подробностях о своих визитах. Это был истинный элегантный гусар, с французским юмором. Деньги тратил так, что сестра, хоть и министерша финансов, не успевала удовлетворять потребность. Случайность оборвала его жизнь. Лопнул шкворень в экипаже во время езды рысью, он выпал на землю и скончался на месте.
Совершенно иным был Юшневский. Некогда генерал-интендант в армии Витгенштейна, он квартировал в Тульчине. Друг Пестеля, вместе с ним разрабатывал ту конституцию, что должна была создать федеративную славянскую республику. Внешне полон скромной простоты, в беседе спокойный и серьезный, обладал он умом, отточенным научным трудом и знаниями. Он очень отличался от своих товарищей и в их среде являлся некоей необычной своеобразностью.
Разочарованный прошлым, без надежды на будущее, с грустной покорностью вел он тихую жизнь. И не скрывал этого в доверительных беседах со мной, к которым был довольно склонен. Хорошо говорил по-польски. Жена его, полька, хорошая была женщина. Очень простая, даже несколько заурядная112. У него было слабое сердце, и умер он внезапно. На похоронах друга Вадковского, стоя рядом с катафалком, упал и скончался. Из всех декабристов возле Иркутска самым приятным для меня был Юшневский.
В субботу после обеда обычно отправлялся я в Иркутск. Немировский постоянно занят был уроками и рисованием и свободен был лишь по воскресеньям. Поэтому мы договорились каждый праздничный день проводить вместе. Прогулки по девять верст я совершал пешком зимой и летом. Если собирался быть у Юшневских, то тогда брал у хозяина лошадь за постоянно договоренную цену 25 копеек серебром. Тогда, чаще всего в шесть часов вечера, Леопольд снимал чайник с самовара, чтобы налить чаю, а я входил. Оба мы, исполненные жажды дружеского общения, начинали беседу, длящуюся до полуночи и более. Все дела прошлого выходили на сцену.
Биография Леопольда Немировского любопытна, интересна и отменна. Закончив курс наук в Виленском университете, сразу же поступил на государственную службу в Варшаве в качестве стажера-юриста. Вскоре вспыхнуло восстание 1830 года. Леопольд вступил во 2-й уланский полк и в этой храброй коннице провел всю кампанию. Ни одной битвы не пропустил и о каждой умел образно рассказать. Подробности кровавого сражения под Остролэнкой, где он был ранен, до сих пор остались у меня в памяти113. По окончании войны вошел с корпусом Раморино в Галицию114. На родину возвратился в 1833 году и несколько месяцев отсидел в Киевской крепости. После освобождения подался в Одессу, где как комиссионер, торгующий пшеницей, завоевал доверие многих помещиков и начал было вести весьма прибыльные дела. Снова был арестован в 1838 году, из Киевской крепости был отправлен вместе с нами на каторжные работы. Хорошо рисовал и писал красками. Талант его оказался нужен сибирским властям. По приезде с рудников я застал его в Иркутске, он давал уроки рисования дочерям губернатора. Позднее из Петербурга прибыла комиссия для инспектирования Восточной Сибири под руководством сенатора Толстого. Направленные на Камчатку чиновники предложили Немировскому сопровождать их для зарисовки тех далеких, мало изученных северных районов. Возвратился он из этой поездки с накопленным значительным запасом рисунков, сделанных с натуры. Я видел у него великолепный альбом с изображением различных эпизодов этой экспедиции115, когда навещал Леопольда в Ковельском уезде в Тужиске. В позапрошлом году внезапный пожар, от которого он едва спасся живым, уничтожил всё имущество и все работы Леопольда. Сгорел и этот прекрасный альбом. Этот новый удар перенес он преспокойно.
Размечтавшиеся после долгой ночной беседы, мы наконец засыпали. На следующий день, в воскресенье, ходили мы все вместе в костел, оттуда к Лесьневич. Пани Лесьневич уже была в Иркутске116. И еще я запасался продуктами на неделю. В понедельник с утра Немировский шел к своим занятиям, я же возвращался к своему одиночеству.
Не раз пересматривал я письма от жены. Каждое из них было трогательным описанием тогдашней ее печали и сердечных огорчений. До сих пор, после почти 40 лет, не могу читать их без волнения. Рвалась ко мне, но на каждом шагу встречала тысячи препятствий. И в самом деле, поездка в Сибирь не могла быть легкой. Сердце ее разрывалось от тоски по мужу и от вида больных, самых лучших родителей. Препятствия и трудности возникали везде, одни нечаянно, другие создавались умышленно. Что творилось со мной и во мне после получения каждого письма! Печаль, боль, тоска, даже возмущение бушевали во мне, как в безумном. Безумие это иногда изливал я на бумаге, потом, немного успокоившись, сожалел об этом. Порывистые слова, отправленные домой, усиливали страдания бедной моей мученицы, коробили членов семьи. Виноват я был несомненно, следовало бы поступать сдержаннее. Но и сейчас еще чувствую и говорю, что это было свыше моих сил. Судить меня надлежащим образом сможет лишь тот, кто был в таком же несчастном положении.
В одно из воскресений, после литургии, ксендз Хачиский предложил мне поехать в Александровский Завод и в Усолье, где он должен был исповедовать живущих там католиков. Я охотно согласился, ибо рад был навестить товарищей. При этом я обещал заменить ризничего и помогать при мессе. На нашем пути лежала деревня, где жили Волконские. Мы зашли к ним, ибо я считал своей обязанностью и долгом вежливости поблагодарить старика Волконского. Приняли нас очень любезно, а поскольку дело было к ночи, оставили ночевать. Княгиня Волконская была большой дамой в полном смысле слова. Высокого роста, смуглая брюнетка, некрасивая, но приятной наружности, в молодости она, должно быть, была привлекательна. Вела со мной оживленный разговор с большим салонным искусством и с доброжелательностью, сдавалось мне, неподдельной. Она возбуждала симпатию и уважение перенесенными своими страданиями и почти героическим самопожертвованием. Первыми с княгиней Трубецкой примчались они за мужьями аж в Нерчинские рудники. В первое время отношение к государственным преступникам было чрезвычайно суровое. Бедные эти дамы, привыкшие к удобствам и пышности, переносили много унижений, много моральных и материальных страданий. Это оставило явные следы. Во внешности ее проявлялась усталость. Не могла дать себе отчета, за что и зачем столько выстрадала. Ведь действительно, дело 1825 года было фатальной утопией, лишенной малейшего логического и действенного основания. Все погибли, не возбудив сочувствия даже в своем обществе117.
В Александровском Заводе мы заехали к пану Фрыдерыку Михальскому с женой. Я не был знаком с ними на родине, тем не менее встретили меня как самого близкого и давнего знакомого. В их домике был устроен алтарь и служилась месса. Ежедневно сходились католики, а их было немало. Пани Михальская, в то время уже вовсе не молодая, очень набожная, обрадовалась прибытию приходского священника и молилась искренне и каждое утро. А поскольку была чрезвычайно гостеприимна, кормила и поила нас беспрестанно.
Оттуда поехали мы в Усолье, где находились Сабиньский и Щепковский, оба занятые обучением потомства Мевиуса. Сабиньский учил языкам, Щепковский — музыке. Знал музыку и страстно любил ее. Умер в Иркутске118.
В Иркутск мы возвращались почтой через Тельминскую фабрику, а поскольку пора была поздняя, заночевали мы на последней станции. Во время езды у моего товарища-ксендза рот не закрывался. Поездка заметно оживляла его, говорил беспрестанно, рассказывая о разных происшествиях. На станции я, чувствуя некоторую усталость, сразу лег на диване. Ксендз погасил свечу и начал читать молитвы. Слушаю я и ушам не верю. Мелет ксендз, как мельница: «Отче, Отче, Отче и т. д., наш, наш, наш и т. д.» — и так до конца молитв. Это он изобрел такой способ послать сразу несколько молитв. Насмешил меня немало такой способ богослужения. Очень забавный был оригинал.
Своеобразен был и викарий ксендз Шайдевич, увлеченный охотничьей страстью. Однажды среди зимы я проснулся перед рассветом и зажег свечу. Мороз был сильный. Вдруг послышался скрип снега под приближающимися санями, которые остановились у моего домика. Входит некто в шубе, с саблей и охотничьим ножом на боку, с двустволкой за спиной, а за этим неким вторая такая же фигура. Оба покрыты белым инеем так, что узнать невозможно. Это был ксендз Шайдевич и его знакомый чиновник, тоже охотник. Собрались на волков, а так как сильно озябли, то завернули ко мне, чтобы обогреться и выпить чаю. Принял я их самым любезным образом, а когда рассвело, они отправились дальше. Нас шокировали эти выходки ксендзов, но мы смотрели на них снисходительно. Заброшенные в те далекие края, оставленные на волю Бога, с невысоким умственным развитием, они совершали разные бестактности. Но они не были плохими людьми, а как священники были лучше некоторых ксендзов на родине.
От соседей моих, крестьян, я не знал никаких неприятностей. Был с ними вежлив, платил за все наличными, не допуская, однако, никакой фамильярности. Население Сибири, в общем, очень разумно и быстро соображает, с кем имеет дело. Сперва на меня смотрели с любопытным недоверием. Затем все освоились, а хозяин мой, который получал от меня хоть небольшой, но регулярный доход и не имел никаких неприятностей, начал провозглашать в мой адрес похвалы по всему селу. Снискал я также доброжелательность крестьянской вдовы, у которой покупал молоко. Приносила мне его единственная ее дочь Дуняша, красивая четырнадцатилетняя девочка. Осмелев после нескольких посещений, рассказала мне о своей семье, о лучших условиях при жизни отца, о бедности после его смерти. И вот зачастую Дуняша, бывало, напьется у меня чаю, принесет матери подарочек, то муки пеклеванной, то немного крупы или кусочек сала. Сердца человеческие одинаковы во всем мире, везде покоряют доброжелательность и помощь в нужде. Однажды дал я Дуняше в день именин немного чаю и более десяти кусочков белого сахара. Надо заметить, что сахар, привозимый из России, был там очень дорог, пуд стоил 25 рублей, так что доступен был лишь для состоятельных, для крестьян же был редкостью. Повсеместно употребляли китайский сахар, называемый леденец, сахар этот очень похож на наши леденцы, желтый, твердый и в небольших кусочках, совсем недорогой, пуд стоит менее 4 рублей. Не мог я отказать очень уж сердечно приглашающей имениннице и пошел к ней на чай. Дуняша, выполняющая роль хозяйки дома, мне первому принесла поднос. Кусочек белого сахара лежал на леденце для меня одного, и я должен был непременно его взять. Деревня была небольшая и жители небогатые. Лишь один более зажиточный крестьянин имел самовар. О моем, новом еще и блестящем, знали все, и когда случалось торжество, всегда являлась делегация, приглашающая меня и самовар. В самоваре я никогда не отказывал, сам же, разумеется, не ходил, отговариваясь под разными предлогами. Ведь и в этом следовало соблюдать осторожность, чтобы отказом не оскорбить. В конце моего пребывания там брат хозяина, другой Чернов, выдавал дочь замуж. Перед свадьбой пришел с приглашением и, как обычно, взял мой самовар. Очень вежливо поблагодарив за приглашение, я, занятый иными мыслями, совсем забыл о свадьбе.
Вечером, когда я уже собирался отдыхать, появились сразу трое свадебных распорядителей, слегка под хмельком, с просьбой и настоятельным пожеланием моего присутствия на гулянье. Сообразив, что делать нечего, что увернуться не удастся, я сдался и пошел. Дом был полон гостей, женщин и мужчин, празднично одетых; гремела музыка, доставленная из Иркутска. Молодые и родители встретили меня в дверях и проводили на удобное место. В другой комнате кипел мой самовар. Подали мне чай с белым сахаром и внакладку, то есть сахар положили в стакан; обычно же для экономии пьют «вприкуску»: маленький кусочек сахару берут в рот и прихлебывают неподслащенным чаем. К чаю принесли мне сливки, ром, печенье, разные мясные кушанья, словом, угощали сытно и прилично. Рядом со мной сел дед невесты, столетний старик, седой как лунь, в белой чистой рубахе, и рассказывал о былых, лучших временах. В другое время я бы слушал его внимательно. Но среди свадебного гула голосов его слов расслышать не мог. Поэтому внимание обратил на общество, как развлекаются и как танцуют. К своему большому удивлению, увидел кадриль. Все фигуры выполнялись по очереди так хорошо, как в наших салонах. Танцоры выкрикивали «шён» и правильно поворачивались. Это был явный налет из близлежащего Иркутска, потому что затем начались народные танцы; образовывали хороводы с пеньем, был «казачок» вприсядку, были разные игры и, что самое удивительное, все проходило в границах приличия и умеренности. Развлекались весело, пьяных не было. Вероятно, это наступило позже. Улучив момент, я выскользнул; хозяин, однако, это заметил, но не пытался силой удерживать, а, поблагодарив за посещение, попрощался и отпустил.
На следующий день после этой свадьбы решил я навестить Юшневских и после обеда поехал в Разводную. Застал я Юшневского в кабинете с чиновником губернской канцелярии, которого немного знал, ибо в его отделе находились письма и посылки для ссыльных. Во время беседы чиновник обратился ко мне с вопросом:
— Так когда вы выезжаете?
— Куда? — спрашиваю я с удивлением.
— Как, вы до сих пор не знаете, что по высочайшему приказу вас переводят в Тобольскую губернию? Уже приготовлены прогоны и назначен казак, который будет вас сопровождать.
Это неожиданное известие обрадовало меня невыразимо. Жизнь моя в течение восьми месяцев была трудной, грустной, даже мучительной. Поэтому покидал я Иркутский край без сожаления, напротив, с удовольствием. Ведь я приближался к родине почти на половину расстояния. Это облегчало приезд жены. И наполняло душу надеждой и утешением.
Этой новой, избавительной переменой был я обязан также усилиям и хлопотам жены. В то время в Петербурге жила моя родная тетя, вдова генерала дивизии Розена. Преданная родственница, добросердечная женщина по просьбе моей жены направилась к своему знакомому помощнику шефа жандармов генералу Дубельту и добилась того, что меня приблизили к родной стороне119. Это была действительно большая милость, и с этого момента моя ссылка стала более терпимой.
На моем лице отразилась большая радость. Добрый Юшневский понял причину ее и тут же написал обо мне несколько доброжелательных слов к своим товарищам, поселенным около Тобольска. Возвратившись домой, я занялся приготовлением к дороге, и хоть мои небольшие пожитки можно было уложить в мгновение ока, я, однако, провозился всю ночь, ибо сильное волнение прогоняло сон.
На рассвете позвал я хозяина, угостил его чаем, расплатился и с благодарностью простился. Хороший был человек, спокойно прожил я у него все время. Сразу после этого побежал я к старику Людвику; он был грустен, ибо из волости уже пришло известие о моем отъезде. Под вечер выехали мы вдвоем в Иркутск. Происходило это в первой половине 1842 года.
В Иркутске было пусто, ибо Немировский покинул город и вернулся в Усолье. Месяц тому назад получил я из дому значительное денежное пособие. Так что все сложилось наилучшим образом. Жаль мне только было бедного Людвика. Прощаясь со мной, он расплакался как ребенок. Предчувствовал, что расстаемся навсегда. Он умер в Иркутске, когда я находился в Тобольской губернии120.
Снова отправился я в дальний путь. Снова преодолевал я огромное пространство, которое два года назад прошел пешком. Теперь удобно ехал, в безопасности и быстро. Сопровождающий меня урядник из казаков был молодой, спокойный и услужливый; он был истинным моим охранником. У него была курьерская подорожная, так что лошадей запрягали хорошо и немедленно.
Забавно, фамилия его была Бибиков, от него я узнал, что в Восточной Сибири среди казаков очень много Бибиковых, отсюда делаю вывод, что фамилия произошла от татар. На одной станции увидел я удобные сани и купил их за 15 рублей ассигнациями. Ехал свободно, отдыхал, где хотел. На втором или третьем ночлеге догнали меня двое чиновников из иркутского комиссариата, едущие аж на Кавказ. Один из них, поляк, видел меня в костеле. В путешествии знакомство всегда завязывается легко, особенно легко посреди пустынных сибирских просторов. При утреннем чае решили мы держаться вместе и вместе ехать как можно дольше. Договорились также, что за мной будет чай, а они будут меня кормить. В объемистых саквояжах были у них запасы разной рыбы, мешок на два корца с варениками с сырым мясом, — всё, естественно, замороженное. На каждой остановке русский чиновник готовил суп с рыбой, а в кипящий самовар бросал вареники121. Делал он это охотно, умело и быстро. В компании было веселей. Так ехали мы вместе до самого Томска.
Господа чиновники погнали дальше, а я остался здесь, ибо хотел отдохнуть. Притом хотел познакомиться со ссыльными литовцами, живущими в Томске, хотел, наконец, побывать в костеле у ксендза. Томским настоятелем был в то время ксендз Гринчель, почтенный человек и уважаемый священнослужитель. Таким увидел я его при первой встрече. Впоследствии мы узнали его ближе, так как ежегодно он приезжал в Тобольскую губернию и всегда гостил у нас несколько дней. Костел, небольшой, но каменный, содержался в чистоте и старательно. Стоял на пригорке с видом на весь город. Рядом просторная усадьба ксендза с хозяйственными постройками; все каменное и аккуратное. Кроме того, был у ксендзов большой хутор, а в нем пасека и богатые сенокосные угодья. Викарий находился в поездке, я нашел его в Тобольске. Приход охватывал две губернии, Томскую и Тобольскую. Ксендзы были дивизионными священниками и по долгу службы ежегодно навещали все воинские подразделения и исповедовали солдат-католиков. Ездили по очереди, и каждая поездка длилась несколько месяцев.
Жили в Томске в то время незнакомые мне лично товарищи по ссылке Томаш Булхак и Козакевич122, оба из Вильно. Не застал я ни одного из них, ибо уже выехали в тайгу. Так называются отдаленные дремучие леса, где есть россыпи золота123. Зимой идет подготовка, нанимаются работники, закупаются мука, мясо и прочая провизия в больших количествах. Все надо отправить в тайгу до наступления весны санями. Летом всякая транспортировка невозможна. Добыча золота длится все лето до поздней осени. В таком вот предприятии работали Булхак и Козакевич. Обычно в средине февраля они выезжали всем табором и возвращались лишь в начале зимы. Так что я познакомился только с женой пана Томаша, давно уже приехавшей к мужу. От нее и узнал приведенные выше подробности. Была она грустна, ибо недавно простилась с мужем и долгие месяцы предстояло ей жить одной. Разлука эта была необходима, потому что заработок пана Томаша составлял единственный источник их существования в ссылке. Я знал его по очень хорошим отзывам и сожалел, что не могу познакомиться лично. О жене его говорили, что у нее высшее образование, что даже она писательница и ученая, но по малооживленной беседе судить об этом было трудно124.
В Томской губернии в Алтайских горах есть серебряные рудники. Главное управление их находится в городке Барнауле, а главным начальником является томский губернатор. Поэтому на эту должность обычно назначается горный инженер125. Когда я проезжал, губернатором был Татаринов, ранее бывший начальником Нерчинских рудников, о нем я упоминал.
В Томске отдыхал я трое суток. Прослушав утреннюю мессу и простившись с почтенным ксендзом, отправился я дальше. Эта обратная дорога была полной противоположностью первоначальной. Туда шел я пешком в голоде, холоде и ужасной нужде. Теперь же мне было тепло, удобно, я как птица перелетал через сибирские просторы. Кони бодрые и неутомимые, ямщики везут резво, весело насвистывая. Выезжая из Иркутска, я купил себе шубу из диких коз, которых там множество. Выделанные шкуры мягкие, сшивают их шерстью наружу, без подкладки. Называется это «доха». Надевают ее на обычную шубу, и тогда даже самый сильный мороз не проймет. Надо только соблюдать осторожность и не вносить доху в теплое помещение, потому что от резкой смены температуры толстая шерсть косули ломается и вылезает. Таким вот образом быстро и без происшествий приближался я к Тобольску. Однажды лишь в лунную ночь наткнулись мы на большую стаю волков, стоящую в нескольких десятках шагов от тракта. Я немного испугался, перепугался и мой ямщик, но ударил по лошадям, как вихрь дунул, и нам удалось благополучно удрать. По всей Сибири почты содержали крестьяне. Несколько или более десятка человек создавали товарищество. У каждого была одна или две тройки лошадей, по возможности и по очереди выполняли почтовые обязанности. Деньги за проезд каждый клал в карман. Нигде не было ни опозданий, ни затруднений, везде быстрота и порядок на станциях образцовый. Где-то посреди Томской губернии вез меня немолодой уже крестьянин на резвой тройке сивых. Завел я с ним разговор и услыхал интересный и характерный рассказ.
«Я, — говорил он, — родом из Екатеринославской губернии. Был я крепостным... В молодом возрасте взяли меня ко двору. Сманил меня леший, и украл я тысячу рублей. Следствие сразу обнаружило мою вину, я был осужден и сослан в Сибирь. Попав в беду, прочувствовал я грех свой и решил непременно исправиться. Бог помог мне. Принялся я всей душой за хозяйствование. Первую собранную тысячу рублей отправил я моему бывшему барину с просьбой о прощении. Теперь я богат. Таких коней, как эти, что вас везут, у меня несколько десятков. Имею большое хозяйство, четырех женатых сыновей, и все у меня хорошо. Однако родимую сторону никак забыть не могу!»
«Благородная личность, — подумал я, слушая. — Сумел оправиться от несчастья, оценил свободу, потому что упорно работал, а успех не избавил его от тоски».
На последнем ночлеге, когда до места назначения оставалось только 300 верст и трехнедельное путешествие мне надоело, я сказал казаку: «Едем живо и без проволочек, чтобы завтра утром оказаться в Тобольске». После этого ехали мы по-курьерски и через 28 часов были у цели. Вот так ездят по Сибири. Въехал я в Тобольск в конце февраля 1842 года.
Я знал, что в Тобольске живет наш товарищ Кароль Мархоцкий, гражданин из Подолии, сын владельца прекрасных Миньковец над Днепром, известного своей эксцентричностью126. Я не был с ним лично знаком, однако, из соображений товарищества, поехал прямо к нему. Он имел собственный скромный домик, жил очень экономно, зарабатывая уроками музыки, ибо хоть шляхетского звания его не лишили, но имущество конфисковали. Некоторую небольшую денежную помощь оказывала ему изредка родная сестра Малаховская. Хозяина я дома не застал, он уже выехал в город. Приняла меня кухарка, молодая и красивая полька. Немного приведя себя в порядок, поехал я со своим казаком к губернатору. Был им некий Ладажиньский, фамилия польская, может, и происхождения польского127. В зале для просителей ожидал только один чиновник в парадном мундире. Позднее я познакомился с ним в необычных обстоятельствах. Фамилия его была Малюга, он исполнял обязанности чиновника для особых поручений.
Вошел потом второй чиновник, в вицмундире, высокий, седовласый. Поздоровался радушно с Малюгой и без доклада вошел к губернатору, а через несколько минут возвратился, подошел ко мне, поздоровался по-польски. Не было времени поговорить, потому что тут же вошел губернатор. Из короткой аудиенции я узнал, что жить мне предстоит в уездном городке Туринске и что могу дней десять пробыть в Тобольске. Следом подошел снова тот чиновник-поляк и пригласил к себе на блины. Я попал на Масленицу, а поэтому на ежедневные у всех блины.
— Живу я неподалеку, — добавил он, — каждый извозчик знает мой дом; прикажи только завести к Морачевскому. Моя жена вас встретит, а я вскоре подойду.
Из этих нескольких слов я узнал лишь фамилию моего блинодателя и то, что он женат. Заинтересованный, я поехал. Извозчик привез меня к большому дому. В передней встретил меня лакей. В зале стол был сервирован красивым фарфором и серебром; сбоку элегантный кабинет, дальше гостиная с мебелью, какой давно уже мне видеть не приходилось.
Вошла хозяйка дома, немолодая, но еще красивая. Представившись, начал я разговор. Вскоре пришел хозяин в сопровождении многочисленных гостей и начался завтрак, роскошный, вкусный. Мне, привыкшему к скромной жизни ссыльного, казалось, что я попал в какой-то волшебный замок. Во время завтрака прибежал Мархоцкий, которого уведомили о незнакомом госте, прибывшем к нему. От него узнал я наконец, где и у кого я находился. Морачевский был офицером Литовского корпуса. В 1831 году по политическому подозрению был выслан в Тобольскую губернию в уездный город Ишим. Там женился на богатой вдове. Переехал потом в Тобольск и служил в канцелярии губернатора128. А так как был любезен и гостеприимен, устраивал приемы и хорошие обеды, то все бывали у него, даже губернатор. Хороший это был человек, доброжелательный к нам, что постоянно доказывал в течение нескольких лет.
Хозяин мой и товарищ Кароль Мархоцкий был уже лет 50, седой, низкого роста, живой в движениях и в разговоре.
Сказывались в нем сразу хорошее воспитание и привычка к хорошему обществу. В приятной беседе, дружески откровенной и приправленной юмором, ознакомил он меня с кругом тобольских ссыльных и условиями местного быта. Из его рассказов я заключил, а затем и убедился в том, что отношения его с земляками были прохладные, даже не слишком доброжелательные. Почему так было, сейчас уже не помню. Может, унаследовал от отца какие-то странности, может, в характере его были изъяны, неприятные при более близких, постоянных отношениях. Со мной весь тот десяток дней, что я у него прожил, постоянно был вежливым и радушным; простились мы очень сердечно. Знаю, что возвратился на родину, что на старости лет женился, что имел несколько сыновей и что жил в окрестности Одессы, но никто уже с ним не встречался.
Застал я в Тобольске ксендза-викария из Томска и ежедневные богослужения. Итак, на следующий день с утра поехал я к мессе. Там, разумеется, было все польское общество, и я сразу познакомился со всеми. Был там Антони Пауша, бывший выборный судья в Житомире, высланный еще в 1831 году из Овручского уезда, где у него было большое имение129. Был некий Долькевич, солдат, но жил удобно, почти изысканно, давал завтраки и вечера с картами. Говорили, что его содержит князь Роман Сангушко130, который, как известно, также был солдатом Тобольского батальона. Я застал там добрые воспоминания о проявлениях его положительных качеств. Примером тому Долькевич, но были и другие ссыльные, о нуждах которых он помнил.
Угощали меня, ежедневно приглашая на завтраки, обеды, вечера, поскольку была Масленица, во время которой все стараются развлекаться. Пауша жил за городом в селе Серебрянке, где у него был собственный домик и цветник. Цветы он любил страстно и умел их выращивать; летом почти ежедневно отправлял либо сам развозил тобольским красавицам со вкусом составленные букеты. Ездили мы в Серебрянку санями; вез меня Морачевский на прекрасных санках с резвым рысаком. Пан Антони угощал нас сытно, тем более что одновременно с нами был викарий, который любил, как я заметил, вкусно поесть и еще лучше выпить.
Жизнь ссыльных в Тобольске полностью отличалась от той жизни, к которой я привык в среде дорогих моих друзей. Да и условия здесь были иными. Дешевизна квартир и почти всех потребительских товаров почти сказочная; имея небольшой капитал, можно было жить хорошо. Одни, как Пауша, получали помощь с родины, другие зарабатывали. Заработать было легко, ибо благосостояние было всеобщим. В этом отношении Тобольская губерния была поистине счастливым краем. Никто особенно не беспокоился о хлебе насущном. Крестьяне были зажиточными, купцы зарабатывали торговлей, у чиновников были хорошие доходы. Такое общее благополучие облегчало дружеское общение, развивало гостеприимство и даже влияло на общую моральность, так как жизнь протекала легко и мысли у каждого были свободны. Европа, особенно западная, со всей своей утонченной цивилизацией, но внутренними социальными ранами, которые не может залечить, могла бы во многом позавидовать этой далекой северной стране.
Из русских ссыльных в то время в Тобольске жили господа Фонвизины и Анненков. Фонвизин был армейским генералом, жена его, не помню из какого рода, была приятная, даже красивая особа131. Анненков был кавалергардским офицером. Его жена, француженка, до замужества содержала модный магазин в Петербурге. Молодой, блестящий и богатый офицер состоял в близких отношениях с ней, у них был ребенок. После приговора к ссылке обещал жениться, если она приедет к нему в Сибирь. Отчаявшаяся влюбленная француженка, встретившись с императором, подала личное прошение о паспорте и о разрешении на выезд.
— Кто вы — жена Анненкова? — спросил ее император.
— Ваша светлость, я — мать его ребенка.
Император смягчился, приказал выдать ей паспорт и деньги на дорогу. Поженились они за Байкалом, в Петровском Заводе, и жили друг с другом прекрасно132. Я нанес визиты в оба эти два дома и вручил письма от товарищей из-под Иркутска.
Прошла Масленица, установилась тишина Великого поста. Я устал от приятной, но беспрестанной суеты и начал тосковать по тишине и одиночеству. Так что, простившись с доброжелательными земляками, поручив опеке Морачевского мою переписку с родными, выехал я с приставленным ко мне казаком в Туринск, где предстояло мне, по воле Божьей, прожить целых шесть лет. Дорога ведет в город Тюмень, что лежит на тракте к Уралу и Перми, в 240 верстах от Тобольска. От Тюмени до Туринска еще верст 160 на север. В Туринск приехал я 13 марта 1842 года к вечеру.
Казак должен был вручить начальнику города привезенную контрабанду133, поэтому мы поехали прямо к городничему. Седой, высокий, с мощным краснофиолетовым носом старик сидел в шлафроке после недавнего послеобеденного сна. Назывался Алексей Данилович Водяников. Сам рассказал мне свою биографию. Сын крестьянина, отдан был в рекруты при Павле I, отправлен в Петербург, там служил в образцовом полку. После 20 лет службы удостоился офицерского звания и перешел на гражданскую службу. Когда я с ним познакомился, он был в чине подполковника и свыше 10 лет был туринским городничим. По этой причине мы в шутку звали его «монумент». Из такой биографии легко сделать вывод, что это был совсем простой человек, без малейшего образования. Неспособен был и ленив к служебным обязанностям, ибо не хватало ему способностей и препятствовала старость. При всем этом хороший он был старик.
Надо мной власть его была почти не ограничена; от его мнения и слова зависела моя судьба, но он ни разу властью этой не злоупотребил. Наоборот, всегда относился к нам сносно, даже благосклонно. Скажу больше, привязался он к нам, и, когда через шесть лет выезжали мы в Россию, обливался слезами, прощаясь. Вспоминаю о нем с благодарностью. Да возьмет его Бог на небеса — знаю, что умер. При ежедневном, по необходимости, общении происходили у меня с «монументом» порой забавные сценки, о которых, возможно, упомяну в дальнейшем рассказе.
Для начала городничий приказал дать мне квартиру, с условием, что я в течение нескольких дней найму себе жилье. Солнце клонилось к закату, впереди был довольно долгий вечер. Я знал, что в Туринске находятся двое декабристов, Пущин и Оболенский, знал я даже, что занимают дом умершего товарища Ивашева. Решил тут же познакомиться, вручить письмо от Юшневского и получить нужную информацию об этой местности. Дом Ивашева был самым солидным во всем городке. Ивашев, человек зажиточный, после освобождения от каторги выслан был на поселение в Туринск. Приехал с женой и маленькими детьми. Не найдя подходящего помещения, построил собственный дом, просторный и удобный. Едва дом был закончен, оба умерли, а бедных сирот забрали в Россию родственники134. Сожалели о них все в городке, ибо оба были сострадательны и делали много добра. После этого печального происшествия опустевший дом заняли Пущин и Оболенский.
Они уже были предупреждены о моем прибытии, так что знакомство произошло легко. Жил я с ними в Туринске три года, хорошо узнал обоих, а по их рассказам узнал характеры, способности и цену многим декабристам. Иван Иванович Пущин, сын сенатора, в молодости служил в гвардии конной артиллерии. Рослый, хорошо сложенный, приятной, даже обаятельной внешности, понравился он мне сразу. В дружеском общении, в движениях, в манере поведения проявлял естественную покоряющую простоту. За благородство характера, отзывчивость и щедрость при веселости и остроумии был он любим всеми. У женщин успех имел невероятный. Искренне любил свою страну, но без фанатизма; основательно знал родную литературу, правильно говорил и писал по-русски, даже хорошо. Патриотизм его был истинный, просвещенный, вызывал симпатию и уважение. В этом отношении был он выше всех своих товарищей. В молодости не мог он избежать печальных и бессмысленных трагических событий, а жаль, потому что при том складе характера и ума, какими он обладал, несомненно стал бы выдающимся и полезным гражданином и служащим. По возвращении на родину в начале царствования Александра II женился на вдове своего товарища госпоже Фонвизиной и умер в имении жены под Москвой135. Я переписывался с почтенным Пущиным до конца его дней.
Иным, отличным был Оболенский. Бывший гвардейский офицер, генеральский адъютант и князь, обладал он тем внешним лоском, какой присущ каждому состоятельному русскому, воспитанному на французский манер. Склад ума неширокий, знаний мало, характер слабый. Фанатик в политке и религии. Регулярно постился, каждую среду и пятницу. Наевшись досыта борща и вареников с постным маслом, обычно гладил себя по животу со словами: превосходно для совести и желудка. Женился на кухарке, простой сибирской бабе, ради чистой совести, несмотря на советы и замечания Пущина, который ему справедливо доказывал, что у бабенки этой был уже не один любовник, что более осчастливит ее, если обеспечит деньгами на всю жизнь. Такой прекрасный подарок привез своей семье, которая, несомненно, пришла в немалое замешательство, не зная, что с этим фантом делать, как с такой княгиней и кузиной обращаться. Писал он мне из Калуги, где поселился, ибо в Калужской губернии было его родовое гнездо136.
В довольно большой гостиной застал я несколько особ, с которыми познакомился. Был среди них Яков Петрович Тулинов, московский купец и откупщик Туринского уезда. Откупщиками называли тогда арендаторов государственных шинков. Продажу водки во всем государстве правительство отдавало в аренду. Торги проходили раз в три года в Петербурге. Богатые купцы брали в аренду уезды и целые губернии. Чтобы получить прибыль и заработать, совершали самые разные злоупотребления, откупаясь со всех сторон. Все губернские и уездные чиновники были на жалованье у откупщиков, которые зато делали что им заблагорассудится. Порядок, вернее, беспорядок такой вошел в обычай. Тулинов заливал водкой весь уезд, кормил, поил и оплачивал чиновников. Вынужден был держать открытый дом, словом, был самой важной фигурой в городе. Простой кацап137 в европейском сюртуке, но добрый человек; очень ограниченный, кроме своего откупа и практической сноровки в откупных мошенничествах, ничего больше не понимал и ничего не знал.
Жена его, Авдотья Егоровна, также дочь московского купца, была молодая, красивая и разумная женщина. Воспитания не получила никакого, но благодаря природной сметливости умела держаться прилично и даже быть приятной. Пущин относился к ней со вниманием, за которое она, как мне казалось, платила ему искренней нежностью
Далее была Григорьевна Григорьева138 молодая брюнетка, только что присланная из петербургского института на должность уездной акушерки. Дитя неизвестных родителей, выращенное и обученное на казенный счет. Молодых акушерок такого происхождения отправляли в разные концы огромного государства.
Наконец, сидел среднего возраста человек в форменном сюртуке с белыми пуговицами; усы торчащие, шевелюра черная, гладко зачесанная. Оригинальная личность, в которой угадал я фельдшера. Это был литвин из Гродненской губернии Кароль Юдынович. В молодости учился на фельдшера в Виленском университете. А так как обладал необычными врожденными способностями, то научился большему. Прекрасно знал ботанику и свойства различных растений; изучал и определял с изумительной точностью болезни.
В 1831 году был фельдшером у повстанцев Пусловского; взятый в плен, бежал. Схваченный во второй раз, сослан был в солдаты в Сибирь139. В Туринской инвалидной команде поначалу бедствовал, но потом случайно проявил свои познания и стал известным и знаменитым. Все жители обращались к нему за советами. Крестьяне верили в него, как в чудотворный образ, и приезжали даже из отдаленных мест. И доктора, хоть с неохотой, но обращались к нему в тяжелых случаях. Действительно, это была необычная личность: простец, даже грубоватый, но как врач неоценимый. Когда я приехал, пан Кароль был уже знаменит, уже имел деньги, уже был желанным членом общества. Так я сразу по прибытии познакомился с местными знаменитостями.
Городок Туринск лежит в северо-западной части Тобольской губернии, над рекой Турой, исток которой на Урале, а устье у Иртыша под Тобольском.
Половина города на холме, вторая внизу; застроен добротно. Есть несколько каменных домов, много домов деревянных двухэтажных, четыре каменные церкви, из которых одна, весьма красивая, тем особенна, что построена простым крестьянином, не знающим правил архитектуры и руководствующимся собственным умом, и вкусом. Есть еще женский монастырь для простолюдинок, управляемый старшей сестрой.
Были четыре очень богатых купца. Помню их фамилии, почему бы мне их не упомянуть? Все были ко мне услужливы, может потому, что я ни разу не злоупотребил открытым мне кредитом. Их фамилии были Мальцев, Ворсин, Бахулев и Дворников. Трое первых имели магазины, в которых продавали все, что могло потребоваться жителям города и окрестных сел. Помимо этого вели довольно широкую торговлю мехом и кедровыми орехами. Четвертый, Дворников, вел торговлю зерном.
К северу, в нескольких верстах от города, за Турой начинаются дремучие леса, тянутся они, с небольшими просветами, к Ледовитому океану. Растут в них пихты, уходящие вершинами в небо кедры и в огромном количестве березняк.
Березняк рубят для отопления, пихту — для построек, кедры берегут как источник дохода и торговли. Потребление кедровых орехов в Сибири велико, и огромное количество их закупают русские торговцы. В этих необозримых лесах водятся соболи и черные, голубые и белые лисы. Черные и голубые лисы дороже соболей и очень редки. Белых лисиц великое множество; мех их некрасивый и тяжелый, но дешевый и очень теплый. Шкуры взрослых используются для дорожных шуб, шкурки молодняка легче, красивее и такие же теплые. По-настоящему прекрасные соболи встречаются очень редко, обычно — со светлой, даже желтой шерстью. Самые красивые соболи водятся в Восточной Сибири, в Иркутской губернии. Часть из них закупают богатые сибирские купцы на воротники для жен, остальное идет в Петербург для двора. Все те соболя, которые продаются у нас, происходят из Западной Сибири и очень умело окрашиваются в Москве. К более дешевым, но пользующимся спросом мехам относятся белки, или сони. Как сельди в море, так белки в лесах толпами двигаются с севера, перескакивая с дерева на дерево. Появляются периодически в одну и ту же пору, но всегда зимой. Тогда начинается охота. Охотники стреляют из так называемых винтовок; это ружье очень маленького калибра, в которое вмещается щепотка пороху и одна крупная дробинка. Охотник приближается на десяток шагов и старается попасть в головку, чтобы не продырявить шкурку.
В нескольких сотнях верст к северу среди лесов находится волость Питым, по которой вся округа зовется Пелымским краем. Населяет ее полукочевое племя вогулов140. Живет там становой пристав, который отчитывается в своей деятельности непосредственно перед тобольским губернатором. Вогулы промышляют охотой и платят мехом государственный налог, называемый «ясак». Племя это, покорное, спокойное, жило в счастье и здоровье, пока не заглянули к ним правители, несущие цивилизацию, а с ней заразные болезни без каких-либо лекарственных средств. В суровом климате эти страшные болезни косили несчастных вогулов, не понимающих ни причин, ни последствий этого бедствия. Гибли как мухи и, возможно, погибли уже полностью.
Легкость и дешевизна жизни в Тобольской губернии была огромна, сказочна но сравнению с возрастающей во всей Европе дороговизной. В этом отношении край этот можно было назвать благодатным. Туринск, стоящий в стороне, в отдалении от основных коммуникаций, выделялся количеством, качеством и низкой стоимостью всяческих продуктов. Например, пуд ржаной муки, очень хорошей, стоил 15 грошей, пуд пшеничной — 40 грошей, пуд отличного мяса — 4 злотых, четырехнедельный, специально выкормленный молоком теленок — 5 злотых, пара рябчиков — 10 грошей, диких уток, тетеревов, глухарей даже не хотели покупать, выбирали только молодых тетеревов и чирков. Рыб отменных уйма и также за бесценок. Зимой на базаре лежали в огромных количествах замороженные карпы, окуни, осетры, стерляди, щуки чудовищных размеров. Щуки уважением не пользовались, и правильно, ибо они не так вкусны, как из наших рек. Сибирские осетры также не могут сравниться с осетрами из Волги, и потому икра из России пользовалась у гастрономов спросом и платили за нее дорого.
Лишь одна рыба была более редкой и дорогой, а именно нельма: с серебряной чешуей, белым и нежным мясом, она водилась только в Туре, и фунт ее стоил 20 грошей. Другую, тоже очень вкусную сибирскую рыбу муксун привозили с Оби и также продавали дороже. За кубометр сухих, распиленных и привезенных во двор березовых дров платил я 12 злотых, а иногда и дешевле141 . Квартиры были удобные, теплые и чрезвычайно дешевые. Я снимал один из лучших домов, принадлежащих купцу Мальцеву; в нем было пять комнаток, две кухни, колодец во дворе, солидные хозяйственные постройки и огород. За все платил я 400 рублей серебром в год. Базар проводился раз в неделю, по субботам. Еврея не было ни одного.
Жители занимались главным образом двумя ремеслами, вернее, предприятиями: кожевенным делом и живописью.
Выделка кож и мехов была превосходной и составляла предмет торговли, вывозимый в Сибирь и в Россию. Художники заключали договоры и писали образа для строящихся церквей даже в дальних сторонах, что приносило значительные доходы. Кроме того, расписывали жестяные подносы и шкатулки и сбывали их оптом вовремя Ирбитской ярмарки.
На самой границе Тобольской и Пермской губерний лежит уездный город Ирбит, где ежегодно в феврале проходила ярмарка, учрежденная Екатериной II. Длилась она две недели, и съезжались туда купцы со всей Сибири, из столицы и других значительных городов России. Там заключались крупные торговые сделки. От Туринска до Ирбита всего лишь верст 80. Меньшие, но постоянные ежегодные доходы имели также жители окрестных лесов. Там росли самые разнообразные лесные ягоды: земляника, малина, красная и черная смородина, клюква, черника и в большом изобилии сибирская ягода княженика, похожая на нашу ежевику, с ананасным запахом, варенье из нее превосходное. Грибов уйма. Туринские рыжики, умело засоленные, были широко известны. Закупали их для Тобольска и для уездных городов южной, безлесной части губернии, как-то: Ялуторовск, Курган, Ишим и Тара. С ценностью и вкусом шампиньонов я первый познакомил жителей. Они называли их собачьими грибами, и никто к ним не прикасался. На унавоженных местах и в самом городке я нашел их множество. За ведро шампиньонов платил я детям, приносившим их, по одному грошу. Потом цена их возросла, ибо вошли они в повсеместное употребление.
Через несколько дней после своего приезда снял я квартиру у мещанина, фамилию которого не помню. Было их двое, брат Иван Иванович, тихий человек, служил в магистрате, я его видел только по вечерам. Дом вела старшая сестра, Анна Ивановна, старая уже и уродливая девка, но услужливая и спокойная. Две вещи она любили страстно: баню и чай. Из любезности к хозяйке я каждую субботу ходил в баню, после чего обычно просил поставить самовар и угощал Анну Ивановну. У этих добрых людей прожил я три месяца, а хорошие отношения сохранились и на все последующее время.
Вскоре я завел знакомства по всему местечку. Это произошло по неизбежным обстоятельствам. Сперва пригласили меня на обед Тулиновы. Первый раз вошел я в дом в сопровождении Пущина и Оболенского. Затем у них познакомился я с начальником школы Уткиным и стряпчим Любимовым. Оба молодых человека отличались в обществе хорошими манерами, первый как чиновник Министерства просвещения, второй как студент Казанского университета. С женой Любимова у меня нечаянно начался было флирт. Она была молода и красива, я тоже был молод, притом одинокий и тоскующий, все условия способствовали взаимной нежности. Искушение было на самом деле, и немалое. Я вышел победителем, о чем вспоминаю с удовольствием.
Уездную администрацию составляли, как везде, исправник, секретарь и три члена земского суда, далее уездный судья с двумя младшими судьями и секретарем, стряпчий и лекари, городской и уездный. Местечком управлял городничий.
Почтмейстером был Василий Васильевич Колпаков, старый ветеран, более 20 лет исполняющий эту должность в Туринске. Он один имел две награды: Св. Анну в петлице и Владимира за многолетнюю службу. Ему завидовали все чиновники. Был он большой чудак. Сослуживцев-чиновников не переносил и ни у кого из них не бывал. К нам проявлял исключительную доброжелательность. Ежегодно в первый день Светлого Воскресения в парадной форме приезжал к нам и только к нам с поздравлениями. Благодаря любезности Василия Васильевича мог я иногда отправить письмо по почте, хотя закон это возбранял. Переписка наша шла административным, очень извилистым путем. Незапечатанные письма вручал я городничему, он отправлял их с рапортом губернатору. Оттуда они шли в Третье отделение царской канцелярии142, где их прочитывали, запечатывали и отправляли по адресам. Удивительное дело, но за восемь лет ни одно мое письмо не пропало. Правда, содержание всегда было невинным и секретов у меня не было никаких. Очень редко также я пользовался любезностью моего почтмейстера. Несмотря на это, было у меня с ним два эпизода, характеризующих местность и местных чиновников. Однажды потребовалось мне быстро связаться с уездным городом Курганом, и я хотел отправить эстафету143 . Старик Василий побледнел от страха, услышав мое пожелание.
— Увольте меня от этого! — воскликнул он.— За все время службы своей никогда не отправлял я эстафету, не умею этого делать, ошибусь и пропаду! Я, конечно, успокоил старика и послал нарочного.
Опять же однажды, среди зимы, едва рассвело, появляется у меня Василий Васильевич. На его измученной физиономии написано было горе.
— Что с вами? — спросил я, встревожившись.
— Пропал я! Забрали у меня Тегутьева, а без него ни почту отправить, ни счетов составить не сумею. Хоть тут же подавай в отставку. Посоветуйте и спасите!
А случилось вот что. Этот Тегутьев, местный почтальон, был правой рукой и головой почтамта. Все делал он, а старый и плохо видящий Василий только подписывал. В награду за хорошую службу губернский почтамт продвинул Тегутьева на должность смотрителя почтовой станции. Тронутый огорчением бедного Васильевича, составил я ему письмо к губернскому почтмейстеру, сущую молитву, полное искренности, покорности и чистосердечности. Дней через десять появляется снова Василий, но уже сияющий от радости. К просьбе его прислушались, Тегутьева возвратили.
Наступила весна, внезапно, как обычно в Сибири. В конце апреля пригрело солнце, растаяли снега и тронулись льды. Тура разлилась по широким лугам, и тут же налетели водоплавающие птицы в непомерном количестве. После угрюмой зимней тишины в ожившей природе начался гомон. В первой половине мая поднялись травы, зазеленели леса и установилось лето. Я начал выходить на прогулки и знакомиться с окрестностями. Рядом с местечком в Туру впадала маленькая речушка, а вернее ручей. Протекал он, извиваясь, по полям и лесам и пересекал тракт, ведущий от Туринска к границам России. И вот чаще всего ходил я берегом этого ручья до мостика на тракте, по которому возвращался. Иногда брал я охотничье ружье и всегда подстреливал несколько диких уток, выбравших себе убежище в затененных кустами местах. Или же направлялся к кладбищу в версте от города. Содержалось оно тщательно, была там опрятная церквушка и немало надгробий. Такая память и уважение к умершим хорошо свидетельствовали о жителях. Доказывали некую возвышенность религиозного чувства, чего среди наших крестьян и мещан до сих пор не видно. Наши кладбища, за малым исключением, очень запущены. На некоторых туринских надгробиях были очень забавные надписи. На надгробии жены городничего была такая строка «Богатство, славу, почести и нежного друга покинула моя дражайшая жена».
В нескольких верстах от кладбища находилась деревня Культники и около нее прозрачный березовый лесок. В леске этом проходили пикники, на которые обычно приглашал откупщик Тулинов. На привезенных столах кипели самовары, стояли разные закуски, бутылки с водкой и с наливками. Собравшееся общество обоего пола угощалось в соответствии со своими желаниями и вкусами. Мужчины принимались за излюбленную водочку и неоднократно перебирали меру. И тогда не раз случались грубовато-комические скандалы, которые хоть и оставляли временные шишки на лицах героев, но не расстраивали, однако, дружескую гармонию. Говорили тогда: подрались по пьянке — и квиты. Водка, явившаяся причиной драки, была одновременно и причиной для оправдания шишек. Сколько ж это раз был я свидетелем самых чудаковатых сцен!
С восточной стороны местечка также был красивый лесок, там обычно проходило катанье на санях; назывался он «сорочья роща». За Турой же, в нескольких верстах, была бумагоделательная фабрика, собственность некоего Панаева, высокопоставленного чиновника в Петербурге. Помимо фабричных построек и неплохого жилого дома Панаеву принадлежал по наследству значительный земельный участок размером до тысячи десятин. Для упрочения и увеличения прибыли господин этот задумал поселить там крепостных крестьян и действительно прислал несколько десятков семей из своих российских владений. Не знал он, что любая колонизация очень трудна, в данном же случае была невозможна. Видел я этих бедных людей, прибывших в Туринск в первый год моего пребывания там. Уже во время долгого, изнуряющего путешествия погибло их много, больше всего детей. Те, которые смогли дойти, ознакомившись с местностью, оглядевшись среди свободных жителей, рассыпались затем в разные стороны, и в течение нескольких лет от них не осталось и следа. Иначе и не могло быть. Зачем и ради чего было им оставаться и в качестве крепостных даром работать на барина, если, сбежав и в худшем случае просидев непродолжительное время в какой-нибудь сибирской тюрьме за бродяжничество, становились они свободными жителями Сибири? Панаев потерял крепостных, крепостные же получили свободу.
Постепенно начал я осваиваться с местностью и с жителями. Утро обычно проводил я дома. Строчил письма в разные стороны света, расширял как мог свою корреспонденцию. Писал часто жене, родителям, родственникам и знакомым, а также товарищам, оставшимся на Нерчинских рудниках. Читал газеты и книги, которые получал от Пущина и от земляков в Тобольске. Там образовалась небольшая польская библиотека из добровольных взносов ссыльных. Находилась она на попечении Онуфры Петрашкевича, бывшего филарета, друга Зана, Мицкевича и других. Сосланный еще в 1831 году, в свое время был секретарем учреждения «Общественное призрение»144.
По вечерам выходил я на прогулку, принимал посетителей либо, в свою очередь, навещал кого-либо, поскольку все были со мной любезны и приглашений постоянно было вдоволь. В мужском обществе играли в бостон. Игры этой я не знал, но научился быстро, а поскольку в ней много занятных и разнообразных комбинаций, то пришлась она мне по вкусу и играл я в нее охотно.
И все же тяготило меня одиночество, тоска донимала все сильней. Приезд жены ждал я с почти болезненным нетерпением. В конце июня Тулинов с женой выехал в Петербург на ярмарку. Прощался с ним весь город и провожал до первой станции. При этой оказии много ели, пили еще больше. Отъезд откупщика опустошил городок. Общество утратило временный очаг, у которого обычно собиралось. Пущин также выехал к друзьям в Тобольск. Остались мы вдвоем с Оболенским, ежедневно навещая друг друга. Так прошли июль и август.
4 сентября получил я сразу два письма от жены, где она сообщала, что собирается, но пока еще ничего определенного сказать не может. Наконец, день 18 сентября принес мне известие, что все трудности преодолены, что выезжает 25 сентября. Вслед за этим Морачевский из Тобольска известил меня, что губернатор получил служебное уведомление от волынского губернатора о том, что жена моя уже выехала. Значит, можно было ожидать прибытия ее в любой момент, ибо уже три недели она была в пути. 25 сентября было знаменательным днем в моей жизни. В этот день Провидение дало мне радость неизмеримую: после четырех лет разлуки увидел я и прижал к сердцу жену мою.
В июле переселился я к зажиточному мещанину Насонову. У него был каменный двухэтажный дом и флигель. И вот я занял временно две комнаты с кухней во флигеле, но заказал этаж в доме с условием, чтобы к 20 сентября был он приведен в порядок и полностью подготовлен. Рассчитал я точно, но хозяин подвел, и пришлось мою усталую путешественницу ввести в тесную квартиру. День был пасмурный, но теплый, дорога сухая. Под вечер пошли мы с Оболенским к начальнику школы Уткину и засели за бостон. В этот же день с утра стряпчий Любимов выехал в уезд по делам. С минуты на минуту ожидали уже возвращения Тулиновых, ожидал и Оболенский, ибо надеялся получить письма и деньги от сестры, живущей в Москве, ожидал и Уткин частых картежных вечеров. Когда мы разговаривали, сидя за зеленым столиком, через открытое окно послышался почтовый колокольчик и утих вроде бы у дома Тулиновых.
— Тулиновы приехали,— в один голос сказали Оболенский и Уткин. Тут колокольчик снова зазвенел и снова умолк, но уже как бы у моего дома.— Что это? — произнесли мы все, но я уже дрожал от волнения. Это был колокольчик Любимова. На последней перед городом станции встретил он Тулиновых и мою жену, едущих вместе, и с этой вестью первым приехал в город. Прошло лишь несколько секунд, как зазвучал колокольчик и явно приближался к школе.
Я не мог удержаться. Сорвался из-за стола и выбежал на крыльцо в ту минуту, когда подъехал тарантас. Любимов уже выпрыгнул, но лишь только увидел меня, схватил в объятия и приговаривал одно: пойдем, пойдем.
Исступление охватило меня и лишило возможности поступать рассудительно. Ни о чем не спрашивая, вырвался я из объятий Любимова и без шапки со всех ног пустился по улице, ведущей на Московский тракт. Любимов — за мной и кричит: «Постойте, постойте!» В домах пооткрывались окна, жильцы смотрят с удивлением, не могут понять, что случилось. Я бегу, стряпчий меня догоняет. Но никакая сила не могла остановить меня в эту минуту. Помчался я дальше, но от слишком внезапного волнения сердце перестало биться, а стало дрожать, будто оно оторвалось. Пришел я в себя, однако ж, призвал на помощь благоразумие и пошел медленнее. Совсем стемнело, когда я подошел к городской заставе. Тракта уже не было видно, но услыхал я тяжелый топот от приближающихся экипажей. Вскоре из ночной темноты появился дорожный тарантас. Я крикнул, и в ответ раздался голос жены моей, которого я так давно не слышал. Вскочил я в тарантас и, одурев от радости, не помню как ее приветствовал, какие произносил слова.
Как уцелевший после долгой внезапной бури корабль начинает плыть свободно и вся его команда дышит радостью и надеждой, так и я после четырехлетней мрачной житейской бури ощутил внутренний покой и счастье в ссылке.
С этой минуты судьба нас уже не разлучала. Вместе жили мы в Сибири, потом в Великороссии, вместе преодолевали разные жизненные пути, зачастую мучительные и опасные, вместе, наконец, возвратились на родину.
Жена моя была в пути целых четыре недели. Ехала в удобном, прочном и вместительном тарантасе. Получила его от тогдашнего волынского губернатора Лошкарева. Суровый и деспотичный со всеми жителями Волыни, по отношению к жене моей он был особенно терпим, даже доброжелателен. Дом ее родителей, где она в то время пребывала, стоял в Житомире напротив дома губернатора. Из своего окна Лошкарев ежедневно смотрел на этот дом, тихий, закрытый и грустный. Знал он о несчастьях этого дома, прошлых и нынешних. Знал, что самый старший брат моей жены, Виктор, с 1831 года скитался по свету как эмигрант, сперва в Соединенных Штатах Америки, потом во Франции. Знал, что второй брат, Константы, также был эмигрантом. Знал, что у жены моей через четыре месяца после свадьбы вырвали мужа и сослали в Сибирь. Глядел непрестанно на одинокую, полную огорчений жизнь молодой женщины. Видел ежедневно, наконец, удрученного и измученного старого отца этой семьи. И хоть это сполна были страдания народно-польские, однако постоянный вид их, по-видимому, трогал сердце сатрапа и пробуждал в нем невольное уважение и сочувствие. Так я объясняю себе исключительную отзывчивость Лошкарева к моей жене и ее родителям. Немедленно уведомлял ее о каждом благоприятном изменении в моем положении, не чинил никаких препятствий в получении паспорта, а тем, что уступил собственную повозку, очень облегчил ее путешествие.
Доехала жена моя без происшествий, благополучно. Попутчиком ее был давний хороший друг Владыслав Дунаевский. Большой оригинал, но очень добрый. Ум его никогда не задерживался на практической стороне жизни, он постоянно витал где-то в туманных высотах. И вся жизнь его развеялась без следа, как туман. Родившийся на Волыни у состоятельных родителей, он в молодости вступил в армию и был гусарским офицером. В 1831 году по политическому подозрению был сослан в Тобольск и вынужден был там прослужить в местном батальоне. По возвращении на родину состояния уже не нашел, отчасти сам его расстроил, блуждая по свету, а большей частью расхватали его мнимые приятели и опекуны, пользуясь безоглядной добротой владельца. Когда жена моя стала собираться в Сибирь, предложил он сопровождать ее, а заодно попытаться получить в Тобольске должность. И получил бы ее без сомнения, но и этим случаем распорядился неудачно, так как взял служебное свидетельство, где было написано, что едет со своей родственницей. Законы того времени строго запрещали родственникам навещать в Сибири политических ссыльных. И так как тобольский губернатор прочитал, что жена моя приехала с родственником, хотя и было это неправдой, приказал он Дунаевскому немедленно покинуть Сибирь. Это стало для него очень чувствительным ударом, а для нас — чрезвычайной неприятностью. Вернулся он на родину и дождался нашего возвращения. Но мне уже не суждено было его увидеть. Два раза он был у нас в Бердичеве и оба раза меня не застал. Умер потом в окрестностях Любара.
Вскоре перебрались мы из тесного флигеля в более просторную квартиру в каменном доме Насонова. Поначалу дела наши шли неудачно. Скромные средства, оставшиеся от дорожных расходов, быстро исчерпались на приобретение необходимых предметов домашнего обихода. Деньги из дому, на которые мы имели право рассчитывать, по разным причинам не поступали вовремя. Пришла нужда. Чтобы избежать долгов, ограничили мы расходы до предела. Пили чай без сахара, на обед ели один суп с мясом. Нам, закаленным в страданиях, такое положение не казалось очень мучительным. Жена моя переносила его спокойно, а я тем более. Но это не все. Наступил момент гораздо более угрожающий, о котором до сих пор не могу вспомнить без ужаса.
Месяц спустя по прибытии моей жены, в конце октября, вышли мы на прогулку. День был морозный, но ясный и погожий. Каким образом жена простудилась, один Бог знает, ибо одета была тепло. Сначала плохо себя почувствовала, а вскоре развилась сильная нервная лихорадка. В убогом уездном сибирском местечке был всего один доктор, занятый лишь служебными обязанностями. Не было аптеки, ибо на складе лекарств при городской больнице, кроме обычных трав, ничего не было.
Встревоженный, без помощи, вызвал я этого единственного доктора. Звали его Лука Варнавович Дуригин. Вызвать Кароля Юдыновича мне не пришло в голову, потому что я еще не убедился в его действительных способностях. Но к счастью, вызвал его сам Дуригин, не полагаясь на собственные силы. Потому что был это человек Добрый и честный, в чем я позже убедился.
Начался отчаянный, долгий период спасения больной. Оба, Дуригин и Кароль, приходили по нескольку раз в день, вместе осматривали ее и вместе уходили. Потом обычно Дуригин привозил лекарство с рецептом.
По целым ночам бодрствовал я над больной, лежащей без памяти. В конце концов полностью выбился из сил. Потерял я память и не мог вспомнить, дал ли и когда дал больной лекарство. Тогда стал помогать мне Оболенский, по очереди со мной просиживая ночи.
Так прошли три недели, в течение которых жизнь моей жены висела на волоске. Доктора отходили молча, я не смел задавать вопросы. Наконец через три недели произошел счастливый перелом. Выйдя от больной, доктора обратились ко мне со словами: «Теперь вы можете быть спокойны, жена ваша выздоровеет!»
Это был первый миг надежды. Вскоре больная пришла в сознание. Медленно, очень медленно возвращались силы и аппетит, наконец здоровье восстановилось.
Тут у меня произошел своеобразный и забавный случай с Дуригиным. Когда стало очевидно, что жена моя выздоравливает, я, обрадованный и благодарный, почти все деньги, что имел, а именно 40 рублей, завернул в бумажку и поехал к Дуригину. Поблагодарил его сердечно за труды и хлопоты около больной, попросил, чтобы навещал нас еще, пока жена не встанет с постели, и вручил ему бумажку, которую он, не разворачивая, спрятал в карман. Через несколько часов является Дуригин. А был он человеком небольшого роста, с быстрыми движениями, как говорится, задиристый. Тихо вошел в комнату моей жены, нашел ее в удовлетворительном состоянии и ко мне:
— Что это вы сделали? — и опустил руку в карман.
Я было испугался, подумав, что он недоволен слишком малой врученной ему суммой. Но он развернул бумажку, отделил две красные ассигнации и положил их на столе, а две другие опустил обратно в карман со словами:
— Это ваше, а это мое. За лекарства я ничего не платил, а за мои хлопоты двадцати рублей достаточно.
Не смог я его упросить принять все, искренне доказывая, что если бы был богаче, то без сомнения озолотил бы его. Он уперся и не захотел взять больше. Это был исключительный доктор-чиновник, совершенно бескорыстный, и это тем более удивительно, что родом он был попович. Любил я его и уважал и до конца сохранил добрые отношения с ним. Слышал, что умер он в Тобольске.
После выздоровления моей жены судьба, как бы утомленная долгим преследованием нас, стала к нам более благосклонна. Начали мы жить скромно, но неплохо, и чем дальше, тем лучше. Поначалу наши денежные дела были шаткими, зачастую гроша не было в кармане. Потом, благодаря бережливости и заработкам, что нашлись на месте, вышли мы из нужды. Необыкновенно дешевая жизнь, небольшая помощь с родины, поступающая время от времени, привели к тому, что потом постоянно находилась в кармане пара грошей, оставшихся от повседневных потребностей.
Притом, благодаря Богу, окружала нас общая доброжелательность всех жителей, чиновников, мещан и крестьян из окрестных сел. Доказательства этой доброжелательности получали мы неоднократно и ощутимо. Такое окружение смягчало тоску. Мы спокойно отдались воле Провидения. В будущее мы смотрели без излишних надежд, но и без полного отчаяния.
В конце августа 1843 года Бог послал нам отраду, представляющую собой целую эпоху в ссыльной жизни. Моя двоюродная сестра, Антонилля Рошковская, направляясь к мужу аж в Иркутск, свернула с дороги, чтобы увидеться с нами145. Появилась она совершенно неожиданно, будто чудо. Ехала в сопровождении Войчеховой Уминьской, также направляющейся к сосланному мужу146. Бедная Антолька (так я называл ее по праву родства) долго боролась с собой, пока решилась выехать и покинуть, возможно навсегда, единственную четырехлетнюю дочурку Вандзю. В то время закон запрещал брать с собой в Сибирь малолетних детей. В конце концов оставила Вандзю на попечение ее родной бабушки, своей матери. После ее смерти Провидение помогло, послав Ванде добросовестную покровительницу в лице пани Дарьюшовой Понятовской, урожденной Ивановской. Эта уважаемая особа, в то время еще молодая, бездетная и богатая, взяла Вандзю к себе, пообещав матери, что о ее ребенке будет заботиться как о собственном. И обещание свое сдержала. В ее доме в Пелаве на Украине Вандзя выросла, воспиталась и получила хорошее образование. По возвращении родителей вышла замуж за Александра Шумовского, профессора Киевской гимназии, достойного и просвещенного человека. В окружении многочисленных детей живут они сейчас в Варшаве. Итак, ехала Антолька к мужу, полная мучительной печали и тоски по единственному ребенку. А поскольку была она очень красива, то еще большее вызывала сочувствие. Жертва была вознаграждена. Благополучно соединилась она с мужем; в ссылке была окружена всеобщим уважением147. В Сибири, в Иркутске, родила она двоих детей — сына Стася и дочь Юльку. Стась, теперь уже Станислав Рошковский, человек высокообразованный и умелый работник. Юлька выросла красивой паненкой, безупречно и заботливо воспитанной. Всего лишь одну неделю отдохнули у нас дорогие путешественницы. Не могли мы их задерживать дольше, ибо приближалась осень, а преодолеть предстояло огромное пространство, свыше 3 500 верст. Провожали мы Антольку верст 90, до так называемой Туринской слободы, большой волости, расположенной на границе Туринского уезда. Там провели мы вместе еще сутки и простились с достойными женщинами, благословляя их на далекий и трудный путь.
В том же 1843 году посетил нас другой, почти такой же дорогой и необычный гость, пани Валерова Жонжевская, урожденная Пшевлоцкая. Родители ее жили в селе Воютино Луцкого уезда. Пани Валеровой предстоял небольшой путь. Муж ее жил в то время уже в Петропавловске, в южной части Тобольской губернии. Он был переведен из Иркутска по просьбе сестры Юзефы, которая, как я выше упоминал, была сослана в Берёзово и там вышла замуж за уездного доктора Вакулиньского148. Пани Жонжевская ехала в обществе Катажины Непокойчицкой, спешившей в Иркутск к своему жениху, Владыславу Рабцевичу149. На границе Сибири они разделились: панна Катажина поехала дальше прямо по Сибирскому тракту, а пани Жонжевская через Ирбит свернула к нам в Туринск. Тоже отдохнула здесь дней десять. Я отправил ее дальше в удобных санях, которые уступил мне купец Мальцев. Воспоминания эти прочно сидят в памяти и светят на склоне проведенных в ссылке лет, как звезды в темной ночи, как маяк в тоскливой бескрайней степи, от которого измученный путник начинает отсчет своего дальнейшего движения.
В конце 1843 года почти все мои товарищи были освобождены от каторжных работ. Их расселили для колонизации по разным волостям Иркутской губернии. Некоторым, особенно женатым, разрешили жить в Иркутске. Фортунат Грабовский, с которым меня связывала тесная дружба почти с детских лет, добился позволения переехать в Туринск для соединения с родными150. Это была единственная причина, которую правительство иногда принимало во внимание. С прибытием Фортуната мы стали менее одиноки. Он снял квартиру у той же Анны Ивановны, где поначалу я жил некоторое время, а оставался у нас.
Вскоре после этого появился еще один товарищ по ссылке, давний знакомый Ян Вэрэщиньский. Родители его обладали имением во Владимирском уезде, деревней Амбуково, Ян же имел собственных 9000 рублей серебром — ипотека под деревню Верба, собственность родственника, Адама Подхородэньского. Так обстояли дела, когда вспыхнули восстание и война 1830 года. Ян пошел служить родине. Взятый в плен, бежал к братским отрядам. Схваченный во второй раз, опасаясь расстрела, изменил фамилию и в Сибирь попал как Непомуцен Рэщиньский. Узнав, что мы в Туринске, приезжал из Кургана, где было место его постоянного жительства, приезжал же потому, что имел уже разрешение разъезжать по всей Западной Сибири. Находился у нас по нескольку месяцев и более. Разочарованный в людях, измученный ссылкой, стал он мизантропом. Резкими словами крыл всю свою родню за полное забвение и даже явную несправедливость. И был прав, ибо не только никто ему не помогал, но еще и отобрали у него собственный капитал. С началом нынешнего царствования возвратился он на родину и стал энергично добиваться своего, но так ничего и не получил до самой смерти. Умер он, кажется, в Люблинском воеводстве, у своей родственницы пани Гротусовой, урожденной Красицкой. Любил музыку и живопись, но больших талантов не проявлял. На флейте дудел немилосердно, кистью создавал кое-какие картины. Есть у меня его подарок, вид Туринска, написанный с натуры. Это благородное занятие было для бедного Яна утешением и спасением. Была у него любимая собачка Тузик. С тоскливой иронией он говорил, что на всем свете один лишь Тузик его любит.
Позже жили также временно в Туринске господа Клечковские. Пан Эразм Клечковский владел богатым поместьем в Гродненской губернии. Был он женат на своей двоюродной сестре, урожденной Ваньковичувне. Он являлся членом Союза 1825151 года, и за это его сослали в Сибирь. После войны 1831 года вернулся домой. Однако ненадолго, потому что, как известно, в 1833 году появились эмигранты (эмиссары) с целью начать партизанскую войну. Во главе тех, что вошли в Литву, стоял Волович, который, что также известно, был схвачен и повешен152. Так вот, один из партизан пришел в дом Клечковского, который только что возвратился из ссылки, и потребовал укрытия и коней для побега. Хозяин, естественно, не отказал, хоть сразу предвидел, что безнаказанно это ему не пройдет.
Действительно, начавшееся вскоре следствие обнаружило его невольную виновность, и он был приговорен к поселению в Западной Сибири. В Тобольскую губернию чета Клечковских приехала вместе и жила в Кургане в собственном доме. Двух старших детей оставили они в Литве на попечении родственников. В Кургане дал им Бог трех дочушек. Обратились они к нам с просьбой, чтобы мы помогли им в воспитании этих деток, поскольку мать, постоянно недомогающая, сама этим заняться не могла. Итак, привезли к нам девятилетнюю Юльку и восьмилетнюю Валерку. Жена моя опекала и обучала этих девочек долго, кажется, до конца нашего пребывания в Сибири153. Клечковские переехали было в Туринск и для того, чтобы быть вместе с детьми, и для того, главным образом, чтобы спасать здоровье под наблюдением и по советам уже к тому времени известного Кароля Юдыновича. В левой груди пани Клечковской появилась твердая железа. Кароль определил, что это рак и что грудь надо удалять. Взялся за эту операцию и удалил на моих глазах. Едва хватило у меня сил пережить эти страшные минуты. Больная, однако, перенесла операцию мужественно, а рана через несколько месяцев полностью зажила. Спустя несколько лет рак, как обычно бывает, возобновился, и больная, слышали мы, умерла.
Прибыл, наконец, Игнацы Василовский, молодой человек из Варшавы154. Он служил в Министерстве внутренних дел. За какую-то политическую провинность, о сути которой я не помню, был сослан в солдаты в сибирские батальоны, а как непригодного к строевой службе его отправили в Туринскую инвалидную команду. Пришел он в большой бедности, без сапог на ногах, без гроша ломаного в кармане, так что мы сообща взяли над ним опеку, а убедившись, что он хорошо воспитан, способный и безупречного характера, приняли его полностью в наше общество. Через местные связи удалось освободить его от действительной инвалидной службы, от отбывания караулов и конвоирования арестантов. Впоследствии исправник принял его в земский суд переписывать бумаги, с небольшим месячным жалованьем. Выяснилось, что Василовский был знаком с канцелярской работой и с бюрократическими порядками. Когда пришла пора составить и написать годовые отчеты, сделал он это так обстоятельно и ясно, что их редакция даже обратила на себя внимание губернских властей в Тобольске. С этого времени он стал в земском суде ценным и нужным. Увеличили ему оплату, так что заработка хватало на личную жизнь. Знаю, что он вернулся в Варшаву, но найти его там не смог.
Таким образом создавалась немногочисленная польская колония, живущая в единодушном согласии.
Помимо товарищей, появилось еще двое польских чиновников. Юзеф Лютык, литвин155, был уездным стряпчим; Рогальский же, брат переводчика разных исторических сочинений, — был кассиром. Лютык — очень статный, Рогальский — с малой, жалкой фигурой. По легкомыслию, ибо иначе не могу этого объяснить, женились оба на местных девицах. Советовались со мной предварительно, но, как обычно бывает, сделали по-своему. Было ли удачным супружество у Рогальского, не знаю, потому что при нас было только его обручение. Лютык же плохим был мужем, сделал несчастной девушку, в конце концов спился и плохо кончил свою карьеру.
Еще соучастниками ссылки были польские солдаты, старые служаки из армии 1830 года. Взятые в плен, загнанные в сибирские батальоны, изводимые нуждой и противной службой, они вызывали трогательное сочувствие. Рядовые из народа, недалекие умом, оторванные от родной почвы, лишенные всякой связи с родиной, они отличались обходительностью, добродушием и точным исполнением служебных обязанностей. Пьянства, воровства, всяческого распутства среди них не было. Случались отдельные промахи, но очень редко. Несколько из них находились в инвалидах, я знал всех, и по мере возможности старались мы проявлять к ним деятельную доброжелательность и уважение.
Особенно хорошо помню двоих, ибо с ними у нас более близкие отношения. Один, Марковский из Люблинского воеводства, был по профессии садовник. Каждый раз с наступлением весны он устраивал для моей жены цветник. Делал клумбы под циркуль, копал и подготовлял землю, сажал цветы, садил кустарник и все это делал тщательно и с явным знанием дела. Тихий, покорный и притом болезненный, не знаю, дождался ли он возвращения на родину.
Второй, Пётр Королевский, из Познаньского воеводства. В 1830 году он служил в 3-м уланском полку и был вахмистром. В строю стоял на правом крыле на резвом коне, о чем часто вспоминал с искренней гордостью. Придя в Сибирский батальон, сразу заболел. На ногах появились раны цинготного характера. Каждый раз по выходе его из лазарета болезнь упорно возвращалась. Как непригодного к строевой службе отправили его к инвалидам в Туринск. Проделывали над ним разные опыты, ибо власти не верили в эту болезнь. Проверяли неожиданно, во время смотра выбивали костыли, когда он меньше всего мог этого ожидать, и тогда Королевский самым естественным образом растягивался во всю длину, как калека, не владеющий ногами. Наконец, оставили его в покое. Застал я его в Туринске передвигающимся на костылях, одна нога висела бессильно, и спокоен он был уже полностью. После двух лет знакомства приходит как-то Королевский. Убедившись, что никого нет, что я совершенно один, откладывает вдруг костыли, выпрямляется как струна и, притопнув бессильной якобы ногой, заявляет: «Вот, смотрите, какой я больной! Должен я облегчить душу и открыть правду хоть одному человеку. Здоров я как бык, но сказал себе, что служить им не буду, — и не буду. Но каких трудов и терпения мне это стоит! Вынужден передвигаться на костылях, хоть могу прямо и быстро ходить, вынужден поддерживать искусственные раны на ногах, вынужден морить себя голодом, а то как только начну есть досыта, так сразу морда округлится и здоровье за сто шагов станет видно. Мучаюсь очень, но будь что будет, выдержу до конца». И действительно выдержал. По вступлении на трон Александра II он был освобожден. Был у нас в Бердичеве, погостил более недели и побрел куда-то на родную сторону. Таким был Пётр Королевский, бывший вахмистр 3-го уланского полка! Таких людей имела в своих рядах польская армия!
Жена моя бегло и хорошо играла на фортепьяно. Музыку очень любила, поэтому тосковала без инструмента. Получила она его через два года при посредстве Оболенского. Написал он сестре, жившей в Москве, и та была столь любезна, что сама выбрала фортепьяно и через купцов, которые ехали в Ирбит на ярмарку, прислала его в Туринск. Большой радостью для жены моей было появление долгожданного гостя. Инструмент был звучный и прочный. Уезжая из Сибири, продали мы его в Тобольске за 300 рублей серебром156.
Для развлечения, а также чтобы развить грациозность запущенной, но весьма привлекательной внешности Юльчи Клечковской, жена моя начала обучать ее танцу, припомнив теорию, которую преподавали ей некогда мэтры. Составила группу учениц, пригласив на уроки ровесниц Юльчи: Анюту и воспитанницу откупщика Тулинова Сашу. Счастливая детвора сбегалась в назначенные часы. А так как девушки были щеголихи и охочи к прыжкам, то легко поняли, что требуется, и в течение нескольких месяцев научились кадрили, вальсу, даже начали танцевать мазурку как истинные польки. Вскоре представилась оказия показать себя на публике. Наступил день именин Дворникова, на который было торжественно приглашено все общество. Четыре маленькие балерины стали в кадриль и станцевали так хорошо и ловко, как там никогда не видели, так что могли бы фигурировать и в европейских салонах. Радость родителей достигла степени воодушевления. Жену мою осыпали благодарностями без конца и без меры157. Наиболее забавно и одновременно сердечно проявил свои чувства почтенный «монумент». Не умея совладать с восторженным отцовским чувством, старик подошел к моей жене, стал перед ней на колени и, вознеся руки, как в молитве, громко воскликнул: «Благодарю вас, Люция Игнатьевна, что вы дали такое образование моей Анфисе!» Единственную свою дочь он любил безмерно.
Странная смесь в этих московских чиновниках. Ведь они люди. Многие из них обладают истинными достоинствами. Есть среди них хорошие мужья, заботливые отцы, даже бывают отзывчивы по отношению к товарищам. В служебной сфере — деморализация, такая же большая, как повсеместно. Все крадут, открыто, обдуманно, как бы по убеждению. Получаемое от правительства жалованье для них ничто, взятки — всё. Каждая должность заранее просчитана, сколько должна принести дохода. Эту норму каждый старается не только выдержать, но и непременно приумножить, как хороший хозяин старается поднять доход с владения. Общественное благо, любовь к стране — эти понятия им незнакомы, умам их недоступны. В этом я полностью убедился за шесть лет пребывания в Туринске, а затем за пять — в Калуге. Так что без преувеличения можно сказать, что по всей России бюрократия обкрадывала казну и жителей. Так было. Не знаю, как обстоит дело сейчас, после введения многочисленных изменений и усовершенствований. Говорят, так же, как было и прежде. Вполне вероятно, ибо причины равно ясны, как и трудно устранимы.
Вспоминаю также услужливую и добрую прислугу, какую судьба послала нам во второй половине шестилетия в Туринске. Кучером и работником был Мартын, латыш-католик из Лифляндской губернии, из города158. Сосланный за незаконную продажу пороха, он так и не смог никогда понять свою вину. Порядочный был и очень трудолюбивый. Все наше жилье содержал в образцовой чистоте, а до какой степени был старательным, доказывает такой случай. В один год разбушевалась сибирская чума. Так уничтожила скот в местечке, что ни одной коровы не осталось. У нас была превосходная корова, дающая много отличного молока. Я поручил Mapтыну не выпускать корову и телушку из хлева даже во двор, кормить и поить взаперти, не входить в обуви, потому что одна соломинка, принесенная на сапогах, может занести заразу. Добросовестный Мартын очень тщательно выполнял мои указания, и через несколько месяцев скотина вышла совершенно здоровая. Склонные к суеверию жители убеждены были, что обладаю секретом, предохраняющим от заразы, и просили открыть им этот секрет. Когда я говорил им истинную правду, уходили с недоверием и с мыслью, что правду открыть им не хочу. Это обычный путь всех развивающихся обществ. Где склонность ума к анализу развита недостаточно, там сильно действует воображение и каждое естественное явление воспринимается как чудо и чудодейственностью объясняется. Поначалу было у меня немало хлопот, ибо Мартын говорил только на своем латышском языке, поэтому я не понимал его. Со временем дело пошло легче. Я поспособствовал его взаимопониманию с родным братом, оставшимся в Еллине, зажиточным, как выяснилось, мещанином. В ответ на составленное мною письмо он прислал Мартыну сердечные слова и с ними 400 рублей серебром. Не раз я со смехом говорил, что кучер богаче барина, и действительно так и было. Потом ежегодно благодаря написанным мною письмам получал Мартын более или менее значительные денежные суммы. Я стал как бы орудием роста его успеха и состоятельности, за что он был нам явно благодарен и верно служил до конца.
Горничной была Акулина. Я взял ее в земском суде прямо из партии арестантов, присланных на поселение в Туринский уезд. Родом она была из Вязьмы, а в Сибирь сослана за какую-то кражу в доме ее сестры. Была молода и красива и, что самое удивительное, прошла через этапный поход невинной девушкой. Рассказывала жене моей о разных нападениях и преследованиях, которым подвергалась, и я этому верил, потому что во время переходов с партией был свидетелем ужасных насилий и мерзостей, которым подвергались женщины. Радуясь убежищу, которое нашла в самом начале, встретив мягкое обращение, служила охотно и ловко. Со временем молодость и темперамент взяли свое, она повеселела. На кухне во время вечерних бесед флиртовала с Мартыном. Осторожный латыш посматривал на нее искоса, наблюдал за ее поведением, наконец, запорошил себе глаза, а убедившись, что девушка хорошая, попросил ее руки. Поначалу красавица ершилась, но мы без труда убедили ее, что когда Бог дает хорошего человека, то отталкивать его не надо. Тогда состоялось обручение, которое мы оба благословили. В приданое невесте дали мы коня с телегой и сбруей, доброго рыжика, большого нашего любимца, и немного домашней утвари. Свадьбы мы не дождались, ибо наступила счастливая перемена, конец сибирской ссылке.
Поздней осенью 1847 года от губернатора городничему пришла бумага с вопросом, как я себя веду и заслуживаю ли помилования. Тут же с этой хорошей новостью приехал «монумент» и дал мне прочитать подготовленный ответ. Вскоре из Тобольска сообщил, что губернатор также дал самую лучшую характеристику и что поэтому можем, наверное, ожидать освобождения из Сибири. Поддались мы радостной надежде, но только лишь надежде. Обычно в таких случаях формальности требовали много времени и любое обстоятельство могло все опрокинуть. И вот тревожное обстоятельство действительно появилось. Пришли сообщения о революционном движении и вспышках почти во всей Европе159. Следовало предположить, что все амнистии будут отсрочены, что никого из политических ссыльных из Сибири не выпустят. Но случилось, однако, иначе. В конце марта 1848 года пришел высочайший приказ отправить меня в Россию, назначив местом пребывания Калугу. Радость и волнение мои невозможно описать.
Повод был очень веский. Надо пояснить, что перед выездом в Сибирь жена моя дала властям подписку, что не возвратится в свою страну без четкого высочайшего позволения, даже в случае смерти мужа. Мысль об этом терзала меня непрестанно, была как постоянный кошмар. С выездом в Россию этот драконовское условие теряло силу. Из России жена моя в случае, если овдовеет, могла возвратиться к своим безо всякого препятствия. Так что изменение в положении было радикальное. Тогда-то я убедился, что внезапную радость, как и внезапное горе одинаково трудно перенести. Не в состоянии я был подавить терзающее меня волнение. Утратил сон, аппетит, стал бессильным, как истукан. Такое мое состояние всех обеспокоило. Доктор Кароль Юдынович, опасаясь нервной горячки, советовал собираться и ускорить отъезд, убеждая, что путешествие будет действенным лекарством. И он был полностью прав, ибо в дороге я стал постепенно успокаиваться и силы начали восстанавливаться.
В эти минуты проявилась общая доброжелательность жителей. Чиновники, купцы, мещане приходили поздравлять нас с освобождением. Посыпались письма от земляков из Тобольска. В городе началась череда прощальных обедов и вечеров. В час отъезда около нашего дома была настоящая процессия, в комнатах полно людей и каждый с каким-нибудь подарком на дорогу. Булок, тортов и иных лакомств нанесли огромное количество, так что невозможно было все это забрать. Несколько тарантасов провожало нас до первой станции, а печальный Фортунат Грабовский, которого отъезд наш осиротил, простился с нами аж на следующей станции. Так после шести лет постоянного проживания исчез с наших глаз тихий добрый городок.
Благодарно вспоминаю тех хороших людей. Они, не зараженные еще грехом политической ненависти, были к нам расположены, услужливы и доброжелательны. Жена моя до сих пор повторяет, что в Туринске провела самые приятные минуты в своей жизни. Потому что лишь там, собственно, и началась наша совместная жизнь, потому что я, арестованный и изгнанный через четыре месяца после свадьбы, лишь в Туринске, после четырех лет разлуки, увидел и вновь обрел жену.
И снова, но уже вдвоем, под наблюдением Провидения, отправились мы в бескрайний мир, в далекое путешествие. Приближались мы к своей стране, постепенно вступая в другую, более легкую фазу изгнания, и могли надеяться на полное в будущем возвращение на родину. Но мы не знали, что нас ждет в Калуге, как распорядятся мною местные власти, как посмотрят на нас местные жители, наконец, какие ждут нас условия жизни и какие средства существования. Поскольку наказание мне было только смягчено, то ехали мы с конвоем. Сначала до Перми сопровождал нас фельдфебель-казак, от Перми — жандарм, сменяемый в каждом губернском городе. Везде я обязан был представляться губернаторам и ждать, пока не сменят жандарма, что обычно выполнялось в течение одних суток.
Первым уездным городом на нашем пути была Тюмень, лежащая на большом тракте из Сибири в Россию. Там был собственный дом и контора у Кожелло-Пахлевского160, о котором я уже упоминал. Деятельный и энергичный, благодаря ряду разных предприятий сколотил он значительное состояние. Узнав о нашем освобождении, в сердечном письме потребовал, чтобы мы заехали прямо к нему и у него отдохнули. Так что мы направились к Кожелло. Поздним вечером въехали в Тюмень. Приближаясь к дому Кожелло, услышали мы тарахтение тяжелой повозки, которая остановилась рядом с нами. В ночной темноте ничего нельзя было разглядеть, но в ту же минуту послышался мужской голос, и очень знакомый, потому что принадлежал Адольфу Рошковскому. Удивление было обоюдное и огромное. Они ничего не знали о нашем, а мы об их помиловании. Оказалось, что по одновременному приказу также направлены в Калугу161. Быстро собрались из Иркутска и по санному пути проехали всю Сибирь. В Ялуторовске, уездном городе Тобольской губернии, санный путь кончился. Там задержались они у гостеприимных декабристов Пущина, Оболенского, Муравьева-Апостола и Якушкина162. С их помощью приобрели там удобный тарантас и, дождавшись лучшей дороги, снова отправились в путешествие.
Надо ж было произойти такому странному, фантастическому случаю, чтобы мы, направляясь с двух противоположных концов Сибири, оказались в одну и ту же минуту у ворот Паклевского, который пригласил и Рошковских. Тем временем отворили ворота и мы вместе въехали во двор. Не знали мы, правда, с кем здороваться, друг с другом или с хозяином. Все как-то пришло в согласие благодаря искренней гостеприимности хозяина дома. Нас удобно разместили, щедро и изысканно угощали. На следующий день потянулась процессия навещающих, ибо знакомых у нас было немало. Первым прибежал Уткин, бывший начальник Туринской школы, переведенный на ту же должность в Тюмень. Пришел также доктор Новицкий. Прошлое этого человека необычайно ужасно. Родом был из Житомира. Успешно закончил Виленский университет и получил звание доктора медицины. В Вильно же начал свою практику и там вскоре женился. После этого, вследствие своей получившей широкую огласку репутации, был вызван в Гродненскую губернию и там занялся лечением тяжелобольной очень привлекательной молодой особы. Вытащил ее из недуга, но сам впал в болезнь неизлечимую: безумно влюбился. Под напором слепой страсти утаивает он прежние обязательства, делает предложение и женится повторно.
Совершив двоеженство, возвращается к первой жене, ведет ее на прогулку в место, называемое Антоколь163, и убивает на месте, воткнув иглу в умело выбранное место, около виска. Арестованный, сознался в двойном преступлении и был приговорен к пожизненной каторге в Сибири. Направили его на Успенский завод, большую государственную винокурню вблизи Тюмени, куда отправляли преступников. Здесь и еще ранее началась для бедного виновника чреда невыносимых страданий, жгучих угрызений совести, тем более страшных, что просвещенным разумом понимал и чувствовал всю мерзость моральной пропасти, из которой нет спасения. И он поддался безоговорочному покаянию. Многие годы никто о нем не слышал, никто не видел. Влившись в шайку обычных негодяев, он с тихой покорностью переносил всяческие унижения, выполнял самые тяжелые работы. Наконец, выбился из сил, подорвал здоровье. Своим поведением поневоле обратил на себя внимание местного начальства. Освободили его от работ и взяли на казенное иждивение. Случайно также вспомнили, что он был доктором. Постепенно стали обращаться к нему за советами, которые всегда почти оказывались действенными. Когда мы с ним познакомились, он приезжал в Туринск. Бог уже, по-видимому, простил его, потому что люди снова начали уважать его, даже любить. И мы полюбили его искренне. Приятный был в обществе, сохранил вежливость, выявляющую навыки хорошего воспитания. Выражение лица мягкое, но постоянно печальное. В этой тихой фигуре, которую, очевидно, так сформировали несчастья, кто бы мог угадать и вычитать прошлое страстное и преступное? Никогда о прошлом своем не вспоминал. Только в последний раз, прощаясь в Тюмени, сказал мне такие слова: «Вы приближаетесь к родине и возвратитесь туда, ибо вы этого заслужили. Я же не вернусь никогда, и так быть должно». Есть у меня среди бумаг собственноручное письмо от этого былого преступника, очистившегося долгим покаянием, полученное уже на родине. Вероятно, предстал он уже пред судом Божьим, и хочу верить, что душа его спасена.
Явился также благородный и симпатичный москаль Пущин. Тайком выскользнул из Ялуторовска, только чтобы попрощаться с нами. Такие проявления доброжелательности были ценны и очень приятны. Я не особенно мог ответить взаимностью, ибо еще находился в состоянии полного бессилия. Потому от этих минут в Тюмени остались у меня неясные, туманные воспоминания.
В обществе четы Рошковских отправились мы в дальнейшее путешествие. Нигде не расставаясь, вместе доехали до Калуги. В нескольких десятках верст от Тюмени кончается Сибирь и начинается Пермская губерния, отнесенная к Европейской России. Первый уездный город, уже вроде бы в Европе, Шадринск. Там жил Валевский, бывший в 1830 году офицером Войска Польского. Был государственным лесничим. Знал, что мы в Туринске, и, когда случалась связь, неоднократно просил, чтобы мы не проезжали мимо, если когда-нибудь будем возвращаться, так что заехали мы к Валевскому. Подхватился от послеобеденного сна усатый былой бравый служака и принялся угощать нас с солдатским чистосердечием. Кормил и поил нас прекрасно, детей Рошковских потчевал сладостями, словом, проявлял самое доброе гостеприимство. Порядок, чистота, даже элегантность в его доме были поистине военные. В конюшне, как в комнате, в комнатах же, как у изысканной щеголихи. Ничего больше о нем сказать не могу, ибо видел его всего лишь один этот раз, а разговоров, что велись нами тогда, не помню совершенно.
О том, как мы переезжали Урал, немного могу сказать. Дорога эта всем известна, особенно сегодня, когда по ней прошли многие тысячи соотечественников и когда связь с Сибирью значительно улучшилась. Широкий тракт проложен удобно. Путешественник почти не чувствует, что въезжает на высокие горы и что потом с них спускается. Сам хребет отмечен памятником, установленным в память проезда царя Александра I, когда еще он был великим князем. Также на самом верху Урала стоит город Екатеринбург, столица уральской горной промышленности. Там живет главный начальник, обычно в ранге генерала, с многочисленной канцелярией и с еще большей свитой горных инженеров и разных чиновников. Есть там россыпи (открытые разработки) золота, есть медные рудники, есть медный монетный двор.
Есть также фабрики, на которых обрабатывают местные драгоценные камни, как то: горный хрусталь, изумруды, сердолик и так далее, которых очень много находится в Уральских горах. Цены на эти драгоценности доступные. За десяток рублей купили мы две топазовые печатки и более десятка камней, из которых получилось для моей жены весьма значительное колье. В Екатеринбурге провели мы неделю у товарища по ссылке Дыонизыя Огродзиньского, в дружеском кругу известного под именем Дызя.
Родом из Волыни, Звягильского уезда, он в очень молодом возрасте был арестован, приговорен к солдатчине в Оренбургский батальон и определен в роту, квартирующую в Екатеринбурге. Хорошо воспитанный и очень способный, начал обучать детей местных инженеров. Вскоре снискал всеобщую доброжелательность и протекцию генерала Глинки, бывшего тогда начальником Урала. Дызе разрешили перейти на гражданскую службу, и он сразу получил должность в главной канцелярии. Он сразу же выделился в обществе сидящих там канцелярских крыс, а когда мы были у него, ходил уже в вышитом мундире и имел немалый вес. Через много лет попал он к Демидову, князю Сан-Донато164, известному богачу, владевшему на Урале медными, платиновыми и малахитовыми рудниками. Он управлял всем достоянием этого господина, а впоследствии, живя в Петербурге, получал большую пенсию. Время от времени приезжал на родину, навещал семью, родных и нас, товарищей. Разбитый параличом, преждевременно умер.
В губернском городе Перми задержались мы свыше недели немного ради отдыха, а больше ради прибывающих туда соотечественников, которые, обрадовавшись нашему приезду, задерживали нас горячими просьбами. Особенно помню двух: Ярошевича, доктора из Литвы, и молодого статного брюнета, сосланного в солдаты из Люблинского воеводства, Хенрыка Волиньского. О первом я никогда больше уже не слышал, а до сих пор лежит у меня злотый, который он дал мне при прощании «на дорогу домой». Волиньский вернулся на родину и сейчас является президентом города Люблина. Был я у него, вернее, у них, в прошлом году, проездом в Варшаву. Из молодого некогда брюнета он стал седовласым, окруженным многочисленной семьей.
Пермским губернатором был Огарев, старичок, освоившийся со ссыльными и благосклонный к ним. От всех губернаторов отличался тем, что несколько десятков лет, до самой смерти, не трогали его с места. В Перми оборвалась последняя ниточка, соединяющая нас с Туринском. Простился с нами добрый казак, а для дальнейшего конвоя дали нам жандарма.
Пермь лежит над большой судоходной рекой Камой, впадающей в Волгу. Тут же по другой стороне находится уездный город Оханск165. Въехав в центр города, увидели мы стоящих поперек дороги солдат, взмахивающих руками, как сигнальщики старинного телеграфа. Подчиняясь этим знакам, ямщики внезапно свернули вправо, и оба наши тарантаса вкатились во двор какого-то солидного дома. Мы не могли понять, что это означает. Но в ту же минуту выбежало к нам целое семейство. Это были господа Шадурские, литвины166. Пан Шадурский занимал должность окружного начальника государственного имущества в Оханском уезде. Знали, что мы в Перми, что будем проезжать. И тогда поставили караул, который проследил за нами. Доброе семейство приветствовало нас, незнакомых, как самых близких родственников, одновременно извиняясь за поднятую суматоху. Несколько дней принимали нас очень сердечно, отдав себя, свой дом и все удобства в нем в наше распоряжение.
Кто и где, не помню, — хорошо сказал, что польская шляхта составляет как бы единую семью. Убедиться в этом мог каждый, кто был в ссылке. Там поляков друг другу не представляют. Знакомство возникает само по себе, и те, кто никогда в жизни не виделись, встречаются и приветствуют друг друга как давние и близкие знакомые. Несмотря на частые, очень ожесточенные и вредные раздоры, в польском обществе существует неразрывная сплоченность, объединяющая всех его членов, главной, даже единственной основой которой является глубокая любовь к родине. Именно по этой причине польские ссоры обычно приобретают резкий характер в вопросах общего порядка, ибо тогда выступают сильные эмоции со слишком большими требованиями и слишком склонные к раздражительности. Это наша отрицательная сторона, наш общественный грех, который поистине много нам страданий и несчастий прибавил. Но мы грешны были избытком любви, а Спаситель сказал: кто много любил, тому многое простится.
На следующий день к пани Шадурской приехала жена местного городничего с приглашением на именины мужа. Мы удивились, услыхав, что она говорит по-польски. Удивление наше возросло, когда сказала, что она урожденная Кулаковская, родная сестра филарета, друга Зана и Мицкевича167. Мы были любезно приглашены и были у них на сытном вечере. В гостиной на почетном месте висела миниатюра брата хозяйки в мундире студента Виленского университета. Портрет филарета, уважаемый и любимый в доме московского городничего в Оханске,— удивительные дела!
Далее ехали мы через Казань, Нижний Новгород, Владимир. В каждом из этих губернских городов мы немного задерживались для отдыха и по необходимости, поскольку в каждом городе сменялся наш конвой. Наконец подъехали мы к Москве. Помню, что, въезжая в этот город, вспоминал я и рассказывал моей жене о мерзкой тюрьме, в которой провел двое ужасных суток, когда меня везли через Москву в Сибирь, и добавил, что, наверное, Московскую тюрьму никогда уже больше не увижу. Мог ли предвидеть, что еще в этот же день бросят меня в эту тюрьму?! Без всякой причины, так себе, будьте любезны! А вернее, по глупости и самоуправству подчиненного, у которого сосредоточилась в этот день самая высшая власть вследствие временного отъезда из Москвы генерал-губернатора и губернатора. Временным сатрапом был тогда вице-губернатор, некий Новосильцев, личность, как я потом узнал, во всех отношениях дрянная, фамилия эта была зловещей, памятной в нашем краю многими несчастьями168. Так же как везде, в Москве заехали мы в гостиницу, я устроил жену и пошел со своим жандармом представиться властям, в полной уверенности, что тут же вернусь, что, как в каждом губернском городе, пережду в гостинице смену жандарма. Тем временем меня надолго задержали в канцелярии губернатора. Мой былой опекун исчез, а меня передали под стражу какому-то верзиле, который молча, как немой, повел меня сперва к обер-полицмейстеру, а затем прямо в тюрьму. Задвинулись засовы, и стал я узником. Все произошло так неожиданно и таинственно, что я в самом деле пришел в ужас. Происходило это в 1848 году, когда во всей Европе были волнения169. Я мог предположить, что помилование отменено, что меня повезут обратно в Сибирь.
По опыту зная, что такие дела делаются втайне, я думал об ужасном положении жены моей, оставшейся в гостинице, в огромном и совершенно чужом городе. Помимо всего прочего, в то время свирепствовала холера. Что предпримет одинокая женщина, от кого и когда узнает, что со мной случилось? Я попросил у начальника тюрьмы разрешения написать несколько слов жене и письмо оберполицмейстеру. Под влиянием тяжелых переживаний одним взмахом пера написал я обер-полицмейстеру кратко, но с такой силой и искренностью, что заметно было, как сильно тронут смотритель, когда по обязанности читал мое письмо.
Немедленно он отправил мои письма и стал успокаивать, что мое заключение под стражу, несомненно, будет временным. Действительно, так и произошло. Если б сказали мне об этом сразу, открыто, я бы успокоил жену и попросил, чтобы спокойно ждала в гостинице момента отъезда. Оба мы тогда избежали бы страданий, которые могли закончиться большим несчастьем. Я бы даже меньше скучал в тюрьме, чем в гостинице, ибо видел там и слышал вещи необычные, в своем роде весьма любопытные. Требовать благосклонности от московского чиновника — это то же, что желать, чтобы слепой прозрел. Чиновник проявляет иногда человеческие чувства, но за пределами службы. На службе почти каждый из них перестает быть человеком, теряет людские черты, а вместо них у каждого остается лишь инстинкт, при помощи которого хватает взятки и чины.
После обычных предварительных формальностей смотритель по разным извилистым коридорам ввел меня в просторное помещение, где находилось более десятка человек. С первого взгляда распознал я арестованных из лучших кругов. Действительно, там сидели за разные уголовные преступления шляхта и чиновники.
В тот момент, когда мы вошли, общество играло в лото. Молодой, видный мужчина в офицерском мундире стоял в центре с поднятой рукой и объявлял номер. Игра немедленно прервалась, все глаза обратились на меня. Новый заключенный возбуждает любопытство и разнообразит временные интересы тюремной жизни. Среди этих своего рода товарищей я подобен был несчастной овце, попавшей в стадо свиней, а подавленность моя была такой явной и сильной, что никто из этих господ не смел ко мне приблизиться. И лишь когда принесли мне от жены табак и чай, один, более смелый и очень услужливый, предложил приготовить мне чай. Во время совместного чаепития, ибо я пригласил его, он вступил в разговор, начав, конечно, с вопроса, за что меня заключили в тюрьму. Я видел, что он не очень поверил короткому правдивому рассказу, считая, по-видимому, что я, как и все они, утаиваю истинную вину. Так как был уже поздний вечер, то предложил он мне свою койку, сказав, что спать не будет, ибо у него партия в карты, которая продлится до утра, и попросил при этом полрубля на подкрепление. Дал я очень охотно, но до сих пор не знаю, что с этой помощью сделалось. Видел только сквозь сон, как расстелили на полу зипун и, рассевшись вокруг, играли упорно, пока утром не вошли тюремные охранники подметать и наводить порядок. Открыли дверь в прилегающий садик, устроенный для прогулки заключенных. Я вышел вдохнуть свежего якобы воздуха и сел на скамейке под каменной стеной. Вышел и мой опекун, сел рядом и начал развлекать меня рассказами о прошлом собственном и некоторых сокамерников. Говорил он сначала о себе, что был чиновником в комиссариате, что обвинили его «без вины» за то, что якобы выдал фальшивую квитанцию на рекрута. Четыре года уже был в тюрьме, а до сих пор не знал, когда и как закончится его дело. Подавленности не проявлял вовсе, только ругал энергично правительство и своих былых начальников. Затем указал мне на двух мужчин, гуляющих парой.
Один, рослый, красивый, был жителем Смоленской губернии. Сидел только за то, что имел одновременно трех жен. С первой договорился, что будет делиться с ней полученным приданым, и в силу такого договора она первая взяла на себя роль матери и благословила на два последующих брака. Этой особы я не видел, ибо она сидела в женском отделении. Его товарищ по прогулке, коренастый, слегка сгорбленный брюнет, был известный в Москве грабитель, сверхискусно извлекал из чужих карманов табакерки, часы и деньги. Бесчинствовал долго, пока наконец не поймали его на месте преступления.
Я бы слушал эти рассказы и дальше, но смотритель прервал беседу. Подошел ко мне и уведомил, что хочет поместить меня в другое отделение, где у меня будет лучшее общество. Повел в меньшее помещение, там находились три господина, пили кофе и читали газеты. По разговору и обхождению видно было, что вращались в лучшем обществе. Тут же предложили мне кофе, от чего я не отказался, так как был голоден. Спустя некоторое время двое вышли, оставив меня наедине с пригожим брюнетом в золотых очках.
Рассказал он мне собственную историю и своих двух товарищей. Сам он был арестован за взятку, полученную неосторожно. В его деле не то было интересно, что украл, ибо воровство присуще всем чиновникам, а то, что уже лет восемь сидел в тюрьме, а конца делу не было видно. Измучен был очень и жаждал развязки, пусть самой плохой, лишь бы свет Божий увидеть. Один из его товарищей, немолодой уже, некрасивый, был доктором, а арестован был за изнасилование малолетней девочки. Второй, франт, элегантный, свободно владеющий французским, был вхож в аристократические салоны. Надо пояснить, что в Москве богачи перед праздником Светлого Воскресения охотно делают большие складчины для выкупа арестованных за долги. И вот мой франт договорился со своим хорошим знакомым, что посадит его в тюрьму будто за долг, а благодаря взяткам получит складчину и якобы выкупит его, а деньги между собой поделят. Как сказано, так и сделано. Только временный мой товарищ, почувствовав деньги в руке, предпочел взять себе всю сумму, а арестованного предоставить воле Божьей. Узнав о подвохе, обманутый сообщник немедленно выявил все мошенничество, и франт тоже попал в тюрьму. Вот такие достопримечательности увидел и услышал я в Московской тюрьме.
Временную неприятность я бы перенес лучше, если б знал, что она всего лишь временная. Но никто меня не успокоил, даже смотритель, который, несомненно, знал, что я у него лишь перелетная птица. О том, что он это знал, я заключаю по той исключительной любезности, какую мне оказывал. Через сутки, около трех часов пополудни, явился жандарм с бумагами, который должен был эскортировать меня в Калугу. Появилась и бедная жена моя, обрадованная, что меня увидела и получила обратно. Сам смотритель отворил тюремные ворота и простился со мной с добрыми пожеланиями. Не теряя ни минуты, умчались мы из негостеприимной Москвы.
Однако не был это конец огорчениям. В течение этих несчастных суток бедная жена моя почти все время была на извозчике. Ездила к обер-полицмейстеру, к этому Новосильцеву, ум которого сам не знаю каким охарактеризовать эпитетом, ибо оказалось, что даже не знал он, как и когда подписал приказ о моем аресте. В результате такого беспокойства и переживаний, а вероятно и из-за сильной эпидемии в городе, почувствовала она себя нехорошо, проявились симптомы холеры. Можно ли выразить, в каком я был ужасе? До сих нор еще одно лишь воспоминание ужасает меня, и я скорее отгоняю мысли о нем. Господь помог мне довезти больную жену до Калуги. Вызвал доктора, он прописал какое-то лекарство. Может, помогла аптека, но вернее всего, помогло Провидение Божье.
В первой половине июня 1848 года около полудня приехали мы в Калугу. День был прекрасный, по-настоящему весенний. Я хотел заехать сперва в гостиницу, уложить там больную жену и вызвать доктора. Но жандарм, трус какой-то, решительно воспротивился, говоря, что у него четкий приказ ехать прямо к губернатору. В губернаторском доме сказали, что начальник губернии переехал уже в летнюю резиденцию в загородном саду. Поехали мы за город. Увидели прекрасный дубовый лесок, в нем аккуратный небольшой домик, где губернатор с семьей проводил лето. По другую сторону леска виднелся монастырь Св. Лавра, и лесок назывался рощей Св. Лавра. Туда жители Калуги обычно направлялись на прогулку. Ждать нам не пришлось. Губернатор принял нас сразу, причем держал себя так, как от русского чиновника меньше всего можно было ожидать. С доброжелательной открытостью объяснял нам, какие вынужден по своему положению выполнять обязанности и каким в связи с этим должно быть наше поведение. Итак, прежде всего сказал, что мы будем под постоянным, бдительным оком полиции. Далее, поскольку по всей Европе волнения, а мы — политические ссыльные, то он полагает, что мы желаем знать о том, что происходит на свете, и, считая такой интерес совершенно естественным, предлагает нам для чтения все газеты, разрешенные и запрещенные, которые он как губернатор получает без цензуры, с одним лишь непременным условием — ни с кем в городе не говорить о политике. Далее, поскольку он не получил никаких инструкций, касающихся способа нашей корреспонденции, то полагает, что мы можем вести переписку непосредственно через почту. Только советует и предписывает быть в письмах осторожными. В заключение добавил, чтобы мы в случае потребностей и пожеланий наших направлялись прямо к нему и только к нему. Весь этот разговор провел по-французски. Как сказал, так и поступал.
Под его правлением жили мы очень спокойно. Звали его Николай Михайлович Смирнов. Был малолетним единственным сыном, когда умерли его родители, оставив ему большое имущество в Калужской и Московской губерниях, прекрасные дома в Петербурге и в Москве, а к этому несколько сотен тысяч рублей капитала. Опеку над ним осуществлял родной дядя, также богатый и бездетный, после которого тоже унаследовал состояние. Служебную карьеру начал при посольстве в Неаполе в восемнадцатилетнем возрасте.
Под прекрасным итальянским небом кутил юноша напропалую. Московские рубли разлетались по всему Неаполю. Роскошной жизнью, красотой лошадей, элегантностью экипажей обратил на себя внимание неаполитанского двора. В течение неполных двух лет потерял весь унаследованный капитал и еще наделал долгов. Встревоженный дядя-опекун добился в столице распоряжения отозвать расточительного племянника. Возвратился тот в Петербург, где, прослужив в Министерстве внутренних дел, стал камергером и губернатором. Женат был на Александре Юзефовне Розетти, красавице, фрейлине царицы. Когда мы познакомились в Калуге, у них было четверо детей, три дочери — Ольга, Софья и Надежда, все очень красивые, и младший сын Михаил.
От губернатора мы с Адольфом Рошковским поехали к жандармскому полковнику, которому также обязаны были представиться. Встретили мы человека не скажу знакомого, но хорошо ознакомленного с нашим краем, ибо когда мы были в Сибири, он был в Житомире. Поэтому знал он Волынскую губернию и почти всех ее жителей, притом знал столько и таких тайн, какие только до жандармского уха могли долететь. Фамилия его была Гринфельд. Родом немец, вероисповеданием католик. Холостяк, жил за городом в собственном доме среди цветов, которые с увлечением выращивал. Ровный в обращении, спокойный и тихий. Казалось, он ничего не знает о мире Божьем, а тем временем имел свою великолепно организованную полицию и ничто ни в губернии, ни в городе не ускользало от его внимания. Время от времени наносил нам церемониальные визиты, может, из вежливости, но скорее для того, чтобы своими глазами убедиться, как живем. От нас обычно заходил к владельцу дома, в котором мы занимали один этаж и который тот же Гринфельд порекомендовал нам, узнав из первого же разговора, что для меня было немалой заботой, где и как найти приют в чужом городе, не имея ни одной знакомой души. Владельцем дома был православный священник, капеллан женского монастыря и одновременно учитель религии в гимназии. Входя в эту квартиру, я подумал, что каждый наш шаг будет под пристальным контролем жандарма и попа. Я не испугался этого, наоборот, хотел контроля над нашей жизнью, пусть даже самого строгого, лишь бы добросовестного. И это пошло на пользу. Провидение ввело нас под кров добрых людей. У них жили мы во все время нашего пребывания в Калуге.
Наш поп был уже немолод и сед, звали его Алексей Николаевич Протасов, а жену его Анна Григорьевна. У них был единственный ребенок, двенадцатилетняя в то время девочка Елизавета. В сословии, к которому принадлежал, был он подлинным исключением, ибо не имел никаких поповских пороков и плохих привычек. Тихий, скромный в жизни, трудолюбивый и без малейшего корыстолюбия. Священнические обязанности исполнял по убеждению, не требуя излишних пожертвований. При этом был благотворителем, помогал и давал приют бедным родственникам. Присмотревшись поближе к этой доброй семье, прониклись мы уважением к ней, получая взамен доброжелательность, которая со стороны этих хороших людей перешла в задушевность. Прильнула к нам и их дочь. Начали мы ее обучать, моя жена — музыке, я — французскому языку. А так как девочка была очень прилежная и с большим стремлением к знаниям, то и успехи были налицо. Хоть и не была от природы талантлива, но, однако, бегло играла несложные сочинения и танцы; по-французски же могла читать и понимать без словаря. Французский язык и фортепьяно — два условия, почти непременные у нас и еще более ценимые в России, в то время в семьях калужских попов не практиковались вовсе. Так что когда через некоторое время при многочисленных гостях, собравшихся на именины матери, Лиза села за клавесин и начала играть, изумление было большим и всеобщим. Пошла молва, что у Протасова живут поляки, которые прекрасно воспитывают его дочь. И эта мелочь повлияла на судьбу барышни. Привлеченный известиями о таких талантах, молодой профессор Калужской семинарии попросил руки Лизы. При нас состоялось обручение, а после венчания господин профессор стал священником в одном из лучших приходов Москвы. О благополучном супружестве и богатой жизни дочери сообщали нам родители. Они писали нам постоянно до самого конца. Говорю «до конца», потому что последнее мое письмо возвратилось из Калуги с надписью на конверте: возврат в связи со смертью. Так мы узнали о кончине доброго попа и с тех пор не имеем никаких вестей об этой семье.
Молва о неплохом таланте моей жены опередила приезд наш в Калугу. Жандарм Гринфельд не раз слышал игру ее в Житомире и рассказывал всему городу. Случилось так, что в Калуге не было учителя по фортепьяно, а домов, где надо было давать детям уроки музыки, было очень много. Первым обратился губернатор с просьбой об уроках для трех своих дочурок. Отказать нельзя было ни в коем случае, тем более что предложение было сделано осторожно, а нам нужен был заработок. Цену назначил губернатор — полтора рубля серебром за час. Она стала нормой для всех. Предложения посыпались как из мешка. Если б это я был музыкантом, то мог бы работать с утра до вечера и хорошо зарабатывать. Жена моя, несмотря на слабое здоровье, работала сколько могла, даже больше, чем могла; содержала весь наш домик, жили мы в достатке и даже немного сбережений привезли на родину.
Таким образом завязались многочисленные знакомства. Волей-неволей вошли мы в общение со всем высшим светом Калуги. А этот высший свет состоял из зажиточных граждан, из высоких должностных лиц, гражданских и военных. Все эти господа, не имеющие возможности жить в столицах из-за недостаточных или подрастраченных капиталов, оседали в соседней с Москвой, но более дешевой и скромной Калуге. К этому обществу относились также высшие городские чиновники и их семьи. Насколько помню, жили господа Уньковские. Сам он был некогда управителем губернским. Оба уже старики, имели шестерых сыновей и двух дочерей. Сыновья все уже служили, занимали разные гражданские и военные должности. Младшая дочь их брала уроки у моей жены. Семья эта, многочисленная и дружная, вызывала симпатию и уважение, в ней сохранялась патриархальная простота, редкая вообще и особенно редко встречаемая в России.
Другим был дом господ Яковлевых. Господин Семен Павлович исполнял должность уездного управителя; хозяйка дома, урожденная Беринг, была цветущая и красивая. Оба еще молодые, любили роскошь и утонченность, жили в излишестве в прекрасном и отлично меблированном доме. Все там было на французский манер. Транжирили капитал, не читаясь с многочисленной и все прибывающей детворой. В сущности, неплохие люди, с нами были очень любезны. Две их дочурки были ученицами моей жены.
Далее был дом генерал-лейтенанта Тимирязева, бывшего военного губернатора в Астрахани. Попав в немилость, он поселился в Калуге, выжидая из Петербурга более благоприятных веяний. Жена его, урожденная Вадковская, была сестрой ссыльного 1825 года, с которым я был знаком в Иркутске170. Тринадцатилетняя дочь их также училась музыке. Господа эти отличались тем, что по давнему, а в те времена уже реже практикуемому обычаю содержали толпу лакеев, заполняющих переднюю. Еще жили Нелединские, старые и бездетные. Он был когда-то адъютантом при великом князе Константине в Варшаве. Болезненный, слывший чудаком, он единственно и превыше всего любил музыку. Хорошо играл на скрипке и всегда был счастлив, когда имел возможность играть дуэтом с женой. Кроме перечисленных, было много иных подобных этим домов.
Это высшее русское общество отличалось от низшего и очень отличалось внешне. Насколько в среде чиновников и мелких собственников обращение грубое, часто до неприличия, настолько в сфере якобы высшей изысканность утонченная. Все устроено по иноземным правилам, особенно французским, виденным или слышанным. Меблировка, обслуживание, кухня, туалеты как в Париже. Дамы в салонах говорят только по-французски, и говорят умело, быстро и много. Все разговоры совершенно пустые. Родной язык можно услышать лишь в кабинете хозяина между мужчинами, и то нашпигованный французским. Женщины рассуждают обычно о модах и нарядах, которые любят страстно. Мода господствует повсюду, но в России господствует деспотично. Малейшее отклонение от моды расценивается как недостаток воспитанности, даже как неприличие. В таких убеждениях растут барышни; с детства развивается в них пристрастие ко всему, что блестит. Поэтому московитянки171 вообще легкомысленны, и говорят, что добиться их благосклонности нетрудно. Сам я в этом, естественно, убедиться не мог, но из того что слышал и из собственных наблюдений заключаю, что это вполне возможно. Разнузданности же нравов в столице, о чем много говорят и пишут, не удивляюсь совершенно. Несмотря на это, о польских женщинах здесь имеют очень неблагоприятное представление и всех их в целом зовут кокетками. Это происходит оттого, что не один русский молодой человек, добравшись до Варшавы и столкнувшись там с постоянными посетительницами кафе, чаще всего красивыми и очень ловкими, так вскружил себе ими голову, что либо женился, либо хотя бы излишним восхвалением их достоинств дразнил самолюбие местных красавиц. Один молодой человек, служащий в России, интересный, веселый и остроумный, а поэтому имеющий успех у прекрасного пола, так ответил даме, упрекающей полек в кокетстве: «Правда, что польки умеют нравиться, и возможно, что они кокетки; но их кокетство обычно начинается и кончается в салоне, тогда как кокетство русских дам только начинается в салоне, а заканчивается обычно... в ином месте». Где и как закончилась эта маленькая дуэль, мне неизвестно.
Сыновья воспитываются в подобных условиях. Как только мальчик начинает ходить, к нему приставляют бонну и так называемого гувернера, француза или немца, иногда обоих сразу. Чужеземными бродягами переполнена вся Россия, и каждый более-менее состоятельный дом обладает хотя бы одним из них. Кто он такой, этот инструктор, каково его прошлое, каковы принципы и убеждения, что будет говорить и какие понятия внушать молодому уму, об этом спрашивают меньше всего. Главное, чтобы имел хорошее произношение, чтобы ребенок научился болтать. Эта цель обычно достигается. Покидая родительский дом, молодой человек хорошо владеет двумя языками. Что еще выносит, каким образом и в каком направлении развиты его чувства и стремления? Выносит то, что видел и слышал в доме. Видел элегантность и роскошь, а слышал постоянно, что как воздух необходимы чины и деньги, что чин легче всего получить в гвардии, деньги же с помощью определенных должностей и учреждений добываются из государственных касс и частных карманов. В этом заключался весь гражданско-патриотический кодекс. Вооруженный им юноша выходил на общественное поприще и шел начертанным путем. Прослужив некоторое время в армии, добивался затем доходной должности и становился большим лицом, творя всевозможные злоупотребления согласно общепринятому правилу: все можно, только осторожно.
Многочисленная и мощная бюрократия была, повторяю, истинным бедствием во всей России. Она сохранилась и сейчас, ибо она пред нашими глазами, видим, что делает, а читаем о ней еще больше. Достаточно привести пример с огромным и возмутительным воровством во время последней войны с Турцией172, совершаемым за счет сил и здоровья собственной армии. Об этом пишут московские газеты, сообщают о следственных комиссиях, назначенных для обнаружения преступлений. Но и эти следствия, как и все предыдущие, ни к чему не приведут, и воровство и в будущем не будет пресечено по совершенно явной причине. Так, за вором следит всегда товарищ по ремеслу, поэтому покровительствует ему и изо всех сил оправдывает. Почти никогда обворованный утрату свою не получит обратно, разве по счастливому случаю, не зависящему от воли следователей. Взаимное покровительство особенно сильно там, где речь идет о растрате общественных денег, ибо, по общему представлению, государственные средства не принадлежат никому, то есть принадлежат каждому, кто может их хватать. Так было, и, по-видимому, то же самое существует и сейчас.
Несмотря на многочисленные проводимые реформы, истинная цивилизация в России больших успехов не сделала. И иначе быть не может. Везде цивилизация распространяется медленно, веками, под влиянием различных причин и обстоятельств. Распространится она и в России, но не скоро, до этого времени еще далеко. Высказываются мнения, что Россия никогда не станет цивилизованной страной, что русское общество не способно к цивилизации. Я такого мнения не разделяю. Ведь москали — это люди, значит, должны обладать способностью к усовершенствованию, иначе не были бы людьми. Такие теории рождаются ненавистью, но ненависть, как чувство страстное и негативное, никогда не может продиктовать объективное и здравое суждение.
В эпоху, о которой идет речь, а было это в 1850 году, всякие возвышенные чувства, всякое понятие об обязанностях в общественной, общегосударственной жизни, характерное для каждого цивилизованного общества, были совершенно чужды обществу русскому во всех его кругах. Каждый чиновник, даже судья, был продажным и должен был быть продажным, иначе становился ненужным, вредным, тормозящим привычное движение бюрократической машины, и его немедленно удаляли. В доказательство я мог бы привести факты, которые видел, или мнения, которые собственными ушами слышал.
Упомянутый выше губернатор Смирнов, проведший долгое время за границей, притом очень богатый, терпеть не мог взяточничества. А поскольку был энергичен, то так упорно следил за чиновниками, что бедняги со страху отказались от своих доходов. Не подумал честный революционер, что перекрыл губернский источник, из которого перестало течь в столичный резервуар. Тем самым вызвал на себя негодование всей столичной бюрократии. Прислали для ревизии губернии сенатора Давыдова. Ревизия никаких злоупотреблений не нашла, ибо их не было. Но нашла отступления от канцелярских шаблонов в издании различных административных распоряжений. За это отстранили его от власти. Явился новый губернатор, некий граф Толстой. Перекрытый источник немедленно освободился. Начальник губернской канцелярии, который при Смирнове вынужден был ходить пешком, через несколько недель по его устранению уже имел хороших лошадей и отличный фаэтон. И так было по всей губернии. Все вернулось в обычное состояние к полному удовлетворению всех и каждого.
В прекрасном доме, в просторном салоне, ярко освещенном, за изысканным ужином собралось мужское общество, состоящее из зажиточных помещиков и высших чинов. Разговор шел сперва о Петербурге, о дворе, о разных тамошних сановниках, рассказывали разные новости и анекдоты. Дошла очередь до местных чиновников. Учитывали достоинства и недостатки каждого и каждому выносили приговор. В то время председателем центрального суда был выборный от дворян житель Калужской губернии некий Писарев.
О нем услышал я такое мнение: «Писарев очень хороший чиновник, деньги берет, но дела делает». Я невольно, не подумав, спросил: «Как, выборный председатель берет деньги?» Наступило общее молчание, которое меня немного обеспокоило. Прервал его хозяин дома следующим объяснением: «Видите ли, господа, у них в Польше выборные чиновники денег не берут». Объяснение это, в которое, впрочем, сам объясняющий не верил, общество восприняло с сомнением, как известие о факте, который, может быть, где-нибудь на свете и практикуется, но для них он совершенно непонятен и не нужен.
Привожу эти два случая, потому что они характерны, потому что доказывают, что в тогдашнем российском обществе не было никакой морали. О добросовестном исполнении общественных обязанностей, о правосудии, о любви к родине, о добродетелях людей цивилизованных никто не имел ни малейшего понятия. А где этих условий нет, там о цивилизации не может быть и речи. Так что до цивилизации России далеко, очень еще далеко.
По этим и многим другим причинам, хоть все общество было с нами постоянно любезно, однако для нас отношения были трудны и тягостны. Более соответствующим и приятным, приносящим больше развлечения и удовлетворения, было довольно многочисленное польское общество. Ссыльных было мало, только Рошковские, мы и несколько позже прибывший Саньковский. У него было прекрасное имение в Трокском уезде. Будучи литвином, страстно любил охоту и без охотничьего ружьишка жить не мог173. Несмотря на запрещение правительства в 1848 году, прятал двустволку. Лакей его предал и донес исправнику. Ружье конфисковали, а владельца за такое большое преступление изгнали в Калугу. Честного и приятного товарища мы оставили, но знаю, что он также возвратился на родину.

Поляки. Из живописного альбома «Народы России».Первыми пришли познакомиться с нами три молодых человека, чиновники. Людвик Барщ, литвин из Вильно, окончивший университет в Москве, со школьным товарищем Людвиком Журавиньским, жителем Подолии, прибыли в Калугу, и губернатор Смирнов сразу дал обоим хорошие должности. Барщ стал секретарем строительной компании, Журавиньский — секретарем приказа. Оба хорошие ребята. Получаемого жалованья хватало на скромное, приличное содержание, служебные обязанности выполняли добросовестно, по-польски. Барщ по протекции госпожи Смирновой стал впоследствии чиновником по особым поручениям при виленском губернаторе, и поехал с радостью, ибо постоянно тосковал по родной стороне. Третий молодой человек, Невенгловский, преподаватель Калужской гимназии, вскоре после нашего прибытия выехал на такую же должность в Иркутск.
Местным доктором был Томаш Ягуловский из Московского университета, очень способный. Жена его была урожденная Булхакувна, дочь Томаша Булхака, моего товарища по ссылке, с женой которого я познакомился в Томске. Умер молодым от горловой чахотки. Советником в палате государственного имущества был Матэуш Чайковский из Подолии, старый уже недотепа. Жена у него была еще молодая, красивая и веселая. Был еще Манцевич, молодой человек из Вильно, присланный на службу в Калугу по какому-то политическому подозрению. Приехал с женой и сестрой жены, довольно красивой панной, которая вышла замуж за Адольфа Шантыра, служащего также какой-то калужской конторы.
Припоминаю еще пани Курпиньскую, не живущую с мужем, даму с претензией на хороший тон и на некоторую элегантность. По протекции какой-то русской графини занимала неплохую должность в местной больнице. Была у нее единственная дочь Элиза, красивая брюнетка, вокруг которой увивалась польская молодежь, однако с осторожностью, ибо модные московские претензии, которыми барышня, казалось, была пропитана, возбуждали опасения. Польскую среду дополняли офицеры лесной охраны, живущие в государственных лесах, разбросанных по всей этой лесистой губернии. Было их около десяти, все бывали у нас. Один из них, Зыгмунт Влодзимирский, из Ровно на Волыни, был впоследствии губернским лесничим в Киеве, и там я с ним в последний раз виделся, ибо он снова вернулся в Россию.
Вскоре после этого появился еще один товарищ по ссылке, давний знакомый Ян Вэрэщиньский. Родители его обладали имением во Владимирском уезде, деревней Амбуково, Ян же имел собственных 9000 рублей серебром — ипотека под деревню Верба, собственность родственника, Адама Подхородэньского. Так обстояли дела, когда вспыхнули восстание и война 1830 года. Ян пошел служить родине. Взятый в плен, бежал к братским отрядам. Схваченный во второй раз, опасаясь расстрела, изменил фамилию и в Сибирь попал как Непомуцен Рэщиньский. Узнав, что мы в Туринске, приезжал из Кургана, где было место его постоянного жительства, приезжал же потому, что имел уже разрешение разъезжать по всей Западной Сибири. Находился у нас по нескольку месяцев и более. Разочарованный в людях, измученный ссылкой, стал он мизантропом. Резкими словами крыл всю свою родню за полное забвение и даже явную несправедливость. И был прав, ибо не только никто ему не помогал, но еще и отобрали у него собственный капитал. С началом нынешнего царствования возвратился он на родину и стал энергично добиваться своего, но так ничего и не получил до самой смерти. Умер он, кажется, в Люблинском воеводстве, у своей родственницы пани Гротусовой, урожденной Красицкой. Любил музыку и живопись, но больших талантов не проявлял. На флейте дудел немилосердно, кистью создавал кое-какие картины. Есть у меня его подарок, вид Туринска, написанный с натуры. Это благородное занятие было для бедного Яна утешением и спасением. Была у него любимая собачка Тузик. С тоскливой иронией он говорил, что на всем свете один лишь Тузик его любит.
Составные элементы этого польского общества были очень разнообразны. Собрались здесь и соприкоснулись индивидуумы, не имеющие ничего общего в прошлом, в воспоминаниях, в стремлениях и целях на будущее. Было единение, естественно возникающее в чужом краю, окрашенное общей тоской по родине, ибо и чиновники постоянно чувствовали себя как бы ссыльными. Отношения тогда были доброжелательные, без сплетен, без неприязни, без всяких неприятных или скандальных сцен. Но в отношениях этих не было и быть не могло того душевного очарования, что вытекает из общего прошлого, из целостности в области духа и ума, которое украшало наше сибирское товарищество. Поэтому товарищество такое непонятно каждому, кто прожил обычную жизнь. Бог одаривает им лишь однажды, как бы в награду, при событиях и обстоятельствах равно как тяжелых, как и чрезвычайных.
Все живущие там поляки тянулись к нам. Чаще и охотнее всего собирались в двух домах изгнанников, у Рошковских и у нас. Мы всегда отмечали именины, ибо все о них знали и все дожидались угощения. Угощения эти были скромные и небольшой стоимости. Собравшиеся гости напивалась чаю, молодежь немного прыгала под фортепьяно, старшие засаживались за преферанс, затем — ужин, непродолжительный и скромный, после чего все расходились, обычно довольные, может, благодаря именно тому, что не было пышности, что каждый был встречен просто, но искренне и гостеприимно. На таких встречах всегда присутствовал мой доброй поп с дочерью, а иногда и с попадьей. Мы приглашали их, ибо все уже их знали и любили эту хорошую семью. А к тому же и для собственной безопасности. Собрания поляков в доме ссыльного, находящегося под постоянным надзором правительства, могли обратить на себя внимание полиции и вызвать подозрение. Поп был нашим громоотводом, его присутствие исключало доносы и обеспечивало нам полную безопасность.
Как в Сибири, так и в Калуге были у нас богослужения. Раз в год приезжал из Смоленска ксендз, который был капелланом в дивизии инвалидов и поэтому ежегодно объезжал гарнизоны и команды, где исповедовал солдат-католиков. Смоленским ксендзом в 1848 году был литовец Кроп. Мы бывали очень рады ему, ибо узнали его как хорошего человека, добросовестного и достойного священника. Богослужения длились более десяти дней. Ксендз Кроп исповедовал всех католиков, ежедневно проводил учения, а потом мы по очереди приглашали его на обеды и вечерний чай. Вскоре его от нас отдалили, и стал приезжать уже другой ксендз.
Пребывание в Калуге памятно еще и тем, что там после нескольких лет разлуки увиделись мы с моим родным братом Александром. Оставил я его холостяком, офицером в армии. В Калуге увидали его женатым и отцом четверых детей. В первый раз приехал один. Через год привез к нам жену и двух старших сыночков, Стася и Ксаверика. Мы пообещали брату с женой, что путь наш пройдет через Могилевскую губернию и мы навестим их в собственном доме в Шамовщине, если Бог позволит нам вернуться на родину. Обещание мы сдержали.
Сейчас, когда пишу эти воспоминания, их обоих уже нет. Жена брата Тэкла, урожденная Стаховская, умерла в 1855 году, оставив сиротами мужа и шестерых детей. Смерть этой достойной женщины стала как бы сигналом к бедствиям и неудачам всей семьи. В 1863 году брат мой с двумя старшими сыновьями, Станиславом и Ксаверием, был изгнан в Вятку. Через несколько лет был помилован, но получил приказ перебраться в Царство Польское, а имение в течение двух лет обязательно продать. В связи с такой необходимостью Шамовщина за бесценок перешла в чужие руки, а мой брат с сыновьями поселился в Варшаве. В конце жизни, потеряв здоровье, он переехал в Житомир, чтобы находиться рядом с нами. И в том же 1878 году после длительной и тяжелой болезни 6 января завершил грустную и одинокую жизнь.
В мае 1852 года жена моя получила разрешение поехать на три месяца на родину. Собралась и выехала немедленно. Отца потеряла во время нашего пребывания в Туринске, но в Житомире жили мать и младшая сестра Юлия, которую оставила барышней, а теперь она была замужем и матерью троих деток. Мои родители поселились в Бердичеве, где имели собственные дома, частью купленные, частью ими самими построенные. После десятилетней ссылки посетила моя жена родимые края, обняла родителей, встретилась с родными и друзьями. Узнав о ее приезде, сбегались родственники, и краткое пребывание ее там стало непрерывной чередой самых сердечных восторгов. Подробно описывала эти радостные минуты в письмах, что присылала мне в Калугу. Время от времени перечитываю эти письма. Слышу в них благозвучные голоса, возникающие из прошлого, погружаюсь в воспоминания, уводящие на время от повседневной жизненной прозы и скрашивающие мои немолодые годы.
Возвращаясь в Калугу через Киев, жена моя решила появиться у генерал-губернатора. Итак, поехала к Бибикову. Попала в то время, когда ожидался приезд царя Николая и когда Бибиков уже был уверен, что станет министром. То ли благодаря хорошему расположению духа, то ли, может, дрогнуло в сатрапе человеческое чувство при виде женщины, которую 14 лет назад видел молодой и пригожей, а теперь на лице ее отражены явные следы страданий и муки, во всяком случае, принял жену мою очень любезно и обещал, что воспользуется ожидаемым пребыванием царя и похлопочет о моем помиловании. С этим обещанием возвратилась жена моя в Калугу.
Обрадованный ее благополучным возвращением, я едва обратил внимание на эту надежду, по правде говоря, не верили мы оба. Тем временем случилось иначе. Бибиков сдержал слово. Спустя пару месяцев, то есть поздней осенью 1852 года пришла калужскому губернатору бумага за подписью Бибикова, гласившая, что по царскому изволению мне и Адольфу Рошковскому разрешено возвратиться на родину. Не буду описывать нашу радость. Она тем более велика была, что помилован и Адольф. Вместе приехали мы в Калугу, вместе и покидали ее. Итак, сердечно простившись с почтенными попами, нашими хозяевами, с доброй прислугой Акулиной, которая нам верно служила несколько лет, простившись с соотечественниками и знакомыми, мы как можно скорей умчались из этого города.
Адольф помчался прямо в Киев и дальше на родину, куда, опередив его на несколько месяцев, уехала жена с детками. Мы же направили свой путь в Могилевскую губернию и заехали к брату. Пребывание наше в их гостеприимном доме затянулось сверх меры. Приближался праздник Рождества Христова, и нас не хотели отпускать.
А тем временем постигло нас большое несчастье. Моя мать заболела воспалением легких и в самый сочельник 1852 года умерла. Эту печальную весть прислал ныне покойный отец мой. Получили мы ее в Белоруссии в момент, когда собирались к отъезду. По странной и равно печальной случайности судьбы такое же горе постигло и двух моих товарищей по ссылке, Адольфа Рошковского и Фортуната Грабовского. Оба утратили матерей, когда уже возвращались на родину.
Проезжая через Киев, я должен был представиться тогдашнему генерал-губернатору князю Васильчикову. В последних числах февраля 1853 года приехали мы в Бердичев, где, как я говорил, проживали мои родители. После 15 лет ссылки увидел я и обнял преклонных лет и уже одинокого отца. С этого времени он постоянно жил с нами и около нас, сперва в Бердичеве, потом в Житомире, куда мы переехали после продажи домов и где живем до настоящего времени. Добрый и любимый старичок покинул нас и ушел на небо 25 августа 1871 года в возрасте 90 лет.
Окончанием ссылки заканчиваю я эти воспоминания. О жизни моей по возвращении на родину много говорить нечего или вовсе не стоит говорить. Значительные происшествия и случаи, разные мысли, как собственные, так и вычитанные, отражены в заметках, разбросанных среди моих бумаг. Скажу лишь еще, что пятнадцатилетняя ссылка никогда уже полностью не кончается. Следы не могут не остаться и остаются. Стереть их не смогут даже те, кто приговаривает к ссылке. В первое время общество приходит в движение, как сдвигается почва при выдирании из земли растения. Постепенно поверхность выравнивается, пустоты заполняются. После ссыльных остаются скорбь осиротевших семей, трогательные воспоминания соотечественников. Но жизнь на родине потекла, должна была потечь своим обычным, естественным движением. После десятка с лишним лет изгнанник возвращается. Повсюду встречает давно знакомые лица, везде его радостно, сердечно приветствуют. Но на этом все.
Каждый возвращается к своим делам, к повседневной работе. Изгнанник остается изгнанником, ибо порвалась золотая нить, соединявшая его практическими и деловыми связями со страной. С помощью времени и соотечественников, собственными усилиями вроде бы снова включается в круг отечественных дел, однако неопределенная тоска преследует его всюду, шрам в душе остается навсегда.
Хоть бы уж решительно и бесповоротно кончилась и исчезла печальная эпоха изгнаний! Ссылка делает несчастным отдельного человека, наносит общий ущерб, истощает наиболее жизненные силы страны, ослабляет общественный организм. От этого бедствия сохранят упорный труд и всестороннее развитие. В самом деле, это самый эффективный и единственный способ. Труд и религия истинная! Это прилагательное употребляю именно затем, чтобы обратить внимание тех молодых умов, которые, будучи поражены людскими злоупотреблениями, не принимают законов Божьих и уклоняются от обязанностей, этими законами предписанных. Без основательного просвещения не может быть истинной религиозности; без религиозности невозможно понимание и выполнение личных и общественных обязанностей; без выполнения обязанностей нет подлинной свободы; без свободы нет счастья. Эти истины провозглашают все могучие, независимые и действительно свободные умы. Эти истины подтверждает и наша собственная история. Традиционной сущностью нашей национальности является свобода. В ней заключается причина той славы, которой немногие народы могут похвалиться.
Вновь обрести понятие свободы, не преступая ее границ, принять ее как единственный ориентир поведения во всех случаях частной и общественной жизни — вот та стена Траяна174, которой должен укрепить себя наш народ. И не пропадет он тогда, ибо станем мы на путь легальный, всегда надежный и единственно безопасный. Житомир 18 декабря 1878 года
ПРИМЕЧАНИЯ
Комментарий к отдельным из перечисленных здесь персоналий см. далее, в соответствии с контекстом публикуемых данных воспоминаний.
Упоминаемые в мемуарах уезды соответствовали тогдашнему административно-территориальному делению Волынской и Подольской губерний в составе Российской империи.
Мемуаристом допущена ошибка в написании девичьей фамилии жены А. Рошковского. В действительности она происходила из семьи К. Пфаффиуса. Не исключено, что между последней и сибирскими носителями этой же фамилии, упомянутыми в связи с контактами В. Мигурского с ними в Иркутске (см. предисловие к воспоминаниям В. Мигурского С. 42–49), существовали какие-то родственные связи. В случае подтверждения подобного обстоятельства оно могло в известной мере влиять на сближение иркутских Пфаффиусов с польскими политссыльными в том регионе. Указанный вопрос нуждается в дополнительном изучении. Непосредственно об А. Рошковской см. коммент. 16, 116 и 118 к данным воспоминаниям.
Филарет — участник тайной организации студентов Виленского университета в период 1820—1823 гг. под названием «филареты» (от греч. — любящие добродетель). Организация филаретов, ставившая своей целью самосовершенствование и взаимную помощь, являлась филиальной структурой другой конспиративной организации университетской молодежи в Вильно (1817–1823) — так называемых филоматов (от греч. — стремящиеся к знанию), в числе основателей которой были великий польский поэт Адам Мицкевич (1798–1855) и его друг, также поэт, Томаш Зан (1796–1855). Именно Т. Зан являлся президентом общества филаретов.
Писарев Николай ? — секретарь и заведующий канцелярией киевского генерал-губернатора. Последним был назначен председателем Киевской следственной комиссии, им же учрежденной для рассмотрения обстоятельств дела о конарщиках на украинских территориях, включая и регионы Волыни и Подолии.
Олонецкое губернаторство, упоминаемое мемуаристом, относится ко времени существования в дореволюционной России (с 1802 г.) Олонецкой губернии с центром в г. Петрозаводске, охватывавшей часть Карелии и ряд прилегающих к ней земель. Малороссия — название Украины, официально применявше¬еся в административно-правовой терминологии царской России.
Здесь же, упоминая о полученных на пути в ссылку письмах от жены, Ю. Ручиньский сделал следующее примечание: «Все письма моей жены, с момента моего ареста и до нашего соедине¬ния в Сибири, я сохранил. Возвратившись на родину, сложил я их по датам и отдал переплести. Перечитываю их по очереди, когда пишу эти воспоминания». (См. ненумерованную страницу [249] польского издания воспоминаний.)
Паулина Вильчопольская (1793, 1795, 1798 [?] — после 1849) — дворянка, владелица имения Поповце в Староконстантиновском уезде Волынской губернии, активная участница женской ячейки СПН. Была сослана на жительство в Сибирь. В ту пору ей было уже за 40 лет. Это наказание она отбывала вначале в Берёзове (вместе с Э. Фэлиньской), затем в Таре. В 1843 г. получила разрешение вернуться на родину, где занялась организацией помощи польским ссыльным.
Юзефа Жонжевская (ок. 1815 – после 1861), сестра конарщика Валеры Жонжевского, принадлежала к женской ячейке СПН. В ссылке находилась вначале в Берёзове с Э. Фэлиньской, затем в Таре с П. Вильчопольской. В Таре она познакомилась с врачом Игнацы Вакулиньским и вышла за него замуж. Проживала с мужем в г. Петропавловске. (В ту пору он административно относился к Тобольской губернии и рассматривался как центр на юге Западной Сибири. Ныне отнесен к территории обособившейся государственности Казахстана.) Ю. Жонжевская получила право возвратиться на родину в 1852 и повторно в 1856 г., но оставалась на прежнем месте с двумя детьми и мужем, который имел обширную и доходную практику. (См.: Sliwowska W. Op. cit. — S. 647–648.)
Бопрэ Антони Юзеф (1800–1872) — руководил отделениями СПН на Волыни. Михальский Фрыдерык (1778–1848) — исполнял ту же роль на Подолии. Боровский Пётр (ок. 1802 (1806) [?] – 1882) — осуществлял аналогичные функции в Восточной Украине (Киевщине).
Все четверо первоначально были приговорены военным судом не просто к смертной казни, а к четвертованию. Позднее «Высочайшим повелением» смертная казнь им, как и всем другим их сопроцессникам, была заменена ссылкой в Сибирь на длительные сроки отбывания каторжных работ. См. об этом же подробнее: предисловие Б. С. Шостаковича к воспоминаниям Ю. Ручиньского («Конарщик Юстыньян Ручиньский и его воспоминания...») — с. 312 и соответствующие примеч. 17 к ним; Sliwowska W. Op. cit. — S. 51–52; 76–77; 372–374, 379 381.
Ссыльный конарщик Фрыдерык Михальский умер в Алек¬сандровском Заводе 11 апреля 1848 г. в возрасте около 70 лет. (См. о нем также коммент. 78 к воспоминаниям В. Мигурского.) После смерти мужа его жена, добровольно находившаяся при ссыльных муже и сыне, провела несколько лет в Вологде у сына Люцьяна (Люцьяна Франчишека Фрыдерыка) (1810–1885), куда он был переведен на поселение с каторги в Восточной Сибири, а затем уже вернулась в Подолию.
Ксендз Клодоальд Шайдевич (?–1854) состоял в должности викарного помощника (или вице-курата) по крайней мере с весны 1838 г. (точных документальных данных об этом не сохранилось) до самого упразднения таковой в феврале — апреле 1852 г. Назначенный затем к переводу в г. Вильно, он умер в Иркутске 17 апреля 1854 г.
Литта Юлий Помпеевич (1763–1839) граф, обер-камергер. Действительно он был одним из основных жертвователей средств на сооружение Иркутского костела. Однако неправомерно называть его русским, ибо он являлся итальянцем по происхождению, выходцем из Милана. С конца 1780-х гг. он находился на службе в российском флоте и был принят в российское подданство. Во время правления императора Павла I способствовал учреждению в России великого приорства Мальтийского ордена из 10 командорств, был пожалован титулом графа. После принятия Павлом звания великого магистра ордена Литта сделался его наместником и получил возможность влиять на ход государственных дел. Выгодно женившись на племяннице князя Потемкина, он стал владельцем огромного состояния. Попал затем на определенный период в опалу, а с 1810 г. был вновь возвращен на российскую службу и назначен членом Государственного совета.
Описываемый мемуаристом полукустарный способ добычи соли действительно применялся вплоть до середины 1950-х гг. Рассолы закачивались с небольшой глубины. Испарителями соли служили так называемые чрены — большие четырехугольные железные баки. В современном городе Усолье-Сибирское действует мощный и высокомеханизированный солевакуумный завод, объем производства которого превосходит дореволюционный уровень более чем десятикратно. Колоссальные запасы каменной соли позволяют обеспечивать ею Сибирь, Дальний Восток и экспортировать ее за рубеж.
Вполне вероятно, что поручик Дейхман являлся сыном того самого горного инженера Оскара Александровича Дейхмана (1818–1891), который с 1849 г. исполнял должность начальника Нерчинского горного округа, находился в близких контактах со средой декабристов.
Первоначальным материалом в прессе о конарщиках (как это следует из примечания, сделанного к данному месту по польскому изданию мемуаров Ю. Ручиньского) явилась инспирированная Д. Г. Бибиковым статья в «Киевских губернских ведомостях» с умышленными инсинуациями в их адрес. Вероятнее всего, эта самая статья и была получена в Иркутске декабристами, показывавшими ее польским ссыльным. По какому-то недоразумению данный факт запомнился Ю. Ручиньскому как демонстрировавшаяся декабристами будто бы перепечатка киевской статьи в местной, иркутской газете.
Якубович Александр Иванович (1796–1845) — декабрист, капитан Нижегородского драгунского полка. Участник восстания 14 декабря 1825 г. В июле 1839 г. обращен с каторги на поселение, которое отбывал в д. Большая Разводная Жилкинской волости, под Иркутском (до 1841 г., когда получил перевод в Енисейскую губернию).
Исправник — в дореволюционной России начальник полиции в уезде.
Верста — до введения метрической системы мер русская мера длины, несколько превышавшая 1 1\15 км.
Вместе с тем некоторые его определения в данном вопросе достаточно субъективны. Так, отнесение бурят в начале 1840-х гг. к «монгольскому кочующему племени» не вполне корректно с научной точки зрения, ибо в указанную пору этот народ уже переходил на оседлость, правда, в более значительном масштабе в Предбайкалье, чем в Забайкалье, которое описывает мемуарист. Среди бурят тогда существовало немало и так называемых кочевых земледельцев, то есть тех, кто сочетал скотоводческую и земледельческую хозяйственную практику. Очевидно, что данные особенности нелегко было заметить Ручиньскому, хотя и добросовестному и весьма доброжелательно настроенному информатору, но опиравшемуся лишь на собственные, достаточно ограниченные, чисто внешние впечатления от своего подневольного пребывания в забайкальских бурятских степях.
Вначале присвоенное (по имени Нерчинского воеводства) основанному в 1704 г. Нерчинскому сереброплавильному заводу и перенесенное на возникшее около него селение (так называемый Большой, или Главный Нерчинский Завод), оно затем стало обозначать всю систему каторжных тюрем, сложившуюся в юго-восточном районе Забайкалья. Там с XVIII в. на рудниках серебряно-свинцовых месторождений широко применялся даровой труд ссыльных преступников. Со времени декабристов весь Нерчинский горнопромышленный район сделался местом традиционного размещения политических ссыльнокаторжан.
Мемуарист, очевидно, описывает с. Бянкино, лежащее на р. Шилке в 36 км от Нерчинска, где жил в ту пору и там же умер впоследствии один из двух упомянутых братьев, стоявших во главе этого рода,— Алексей Петрович (1779–1845). Другой из братьев — Хрисанф Петрович (1795–185?) проживал в основном в Нерчинском Заводе. Кого именно из сыновей Кандинских имел в виду Ручиньский, было бы возможно установить лишь после отдельного изучения биографий каждого из многочисленных сыновей обоих названных братьев.
Татаринов Степан Петрович (ок. 1785 – ок. 1855) — горный инженер, полковник. Начальник Нерчинских горных заводов в 1830–1840 гг.
Винценты Хлопицкий (ок. 1809 (1811) [?]–1857) — поручик, ссыльный участник Ноябрьского восстания. В январе 1836 г. он был доставлен в каторжную тюрьму Акатуя и здесь встретился и подружился с П. Высоцким. Известно намерение В. Хлопицкого вместе с несколькими соотечественниками-каторжан¬ми организовать Высоцкому новый побег, уже из Забайкалья. Но их постигла неудача. Истинные свои планы заговорщики сумели скрыть от следствия, представив их в виде предприятия фальшивомонетничества, за что подверглись тяжелой и унизительной экзекуции плетьми. С 1841 г. В. Хлопицкий вновь оказывается в Акатуе, где долгие годы продолжалась его дружба и совместная деятельность с Высоцким, о которой повествует мемуарист.
Упоминая о некоем ссыльном Савицком, мемуарист, по всей вероятности, имеет в виду Игнацы Савицкого (ок. 1811–1812 – после 1857), повстанца 1830–1831 гг. Первоначально сосланный в Западную Сибирь, он принял участие в так называемом Омском деле (см. коммент. 50 к запискам В. Мигурского), за что и поплатился новой ссылкой на Нерчинскую каторгу.
О Солэцком — данные, которые бы расширяли сведения о нем, приведенные Ручиньским, не установлены. (По этому поводу см.: Sliwowska W. Op. cit. S. 565.)
Котовский Франчишек (ок. 1790 – ок. 1854) — происходил с Виленщины. За участие в Ноябрьском восстании 1830 г. был приговорен к телесному наказанию — 3 тысячам шпицрутенов и каторжным работам. На родине у него остались жена и дети. Отбывал наказание на Нерчинских заводах. Переведенный на поселение, был убит по дороге к месту назначения уголовниками в окрестностях Кары (Ibid. — S. 292).
О кс. Я. Богуньском см. коммент. 89 к воспоминаниям В. Мигурского.
По данному поводу самим мемуаристом сделано специальное примечание. В нем он поясняет, что только позднее от своей жены узнал, каким образом и почему произошло его освобождение от каторжных работ. Она купила его у заместителя киевского генерал-губернатора Д. Г. Бибикова, неоднократно упоминавшегося в воспоминаниях Писарева, за взятку в тысячу рублей. «Пожеманничав» для соблюдения первоначальных приличий, он, «вняв убедительным просьбам» Луцьи Ручиньской, «пачку ассигнаций опустил в бюро и обещал для меня помилование,— указывает мемуарист.— И действительно, обещание он выполнил при первой возможности, каковой явилось рождение какого-то из царевичей. Для лучшего симулирования независимого решения этого дела он помиловал одновременно со мной старика Людвика Янишевского задаром».
Юшневский Алексей Петрович (1786–1844) — декабрист, генерал-интендант 2-й армии. Член Союза благоденствия и один из руководителей Южного общества. На поселении жил в с. Куде, затем переехал в с. Жилкино и, наконец, в с. Малая Разводная. Умер в январе 1844 г. при отпевании в с. Оёке умершего декабриста Федора Федоровича Вадковского. В ссылке с А. П. Юшневским находилась его жена Мария Казимировна (урожд. Круликовская) (1790–1863), полька по происхождению.
Описываемое мемуаристом блюдо по всем приемам его приготовления, сохранения и употребления в пути полностью соответствует сибирским пельменям. То, что Ручиньский именует его по-польски термином, переводимым на русский как вареники, это скорее всего дань названию, более понятному и распростра-ненному в польском обиходе.
Существуют указания на созданный ею ряд морально-философских трактатов и описаний собственной с мужем ссыльной жизни. Однако большая часть ее наследия (за исключением одной известной публикации по-польски) осталась в рукописях, ныне, к сожалению, утраченных.
Сангушко Роман Станислав Адам (1800–1881) — князь, представитель знатного и состоятельного магнатского рода. Происходил с Волыни. Был взят в плен как офицер польской армии в одном из сражений восстания в 1831 г. и приговорен к ссылке в Тобольск, а затем — к отбыванию принудительной военной службы рядовым в местном батальоне. По некоторым сведениям, сам Николай I, разгневанный тем, что этот родовитый аристократ отказался от предложения суда официально раскаяться в своих повстанческих акциях (Р. Сангушко твердо заявил, что все его поступки были им совершены по убеждению), настоял на том, чтобы он весь путь в ссылку отбыл «пешеэтапным порядком», в кандалах и в одной партии с простыми уголовниками. Позднее ему был разрешен перевод в армию на Кавказ. Полученными там несколькими ранениями он заслужил, наконец, награды, был вновь произведен в офицерское звание и вскоре вышел в отставку.
Жена — Наталья Дмитриевна, урожденная Апухтина (1805–1869), последовала за мужем в Сибирь. После смерти супруга (в апреле 1854 г. в имении брата М. А. Фонвизина Марьино Бронницкого уезда Московской губ.) она состояла во вторичном браке — с декабристом И. И. Пущиным.
При упоминании повстанцев Пусловского Ручиньский, вероятно, имеет в виду одного из командиров периода Ноябрьского восстания в указанном регионе — Тытуса Пусловского.
Строго говоря, Туринск, который ныне отнесен к уральскому административному подчинению (Свердловской области), трудно безоговорочно зачислить в регионы сибирской ссылки. Мемуарист, подобно большинству польских политссыльных XIX в., не отличает принципиально Сибири от Урала.
Петрашкевич Онуфры (1793–1863) — один из ее основателей и секретарь. Он сумел надежно спрятать от следствия, проводившегося по делу филоматов, их архив, уцелевший до наших дней и позволяющий изучать историю данного направления в польском освободительном движении. Царские власти применили жесткие меры наказания к участникам филоматской организации, хотя и не удалось прямо доказать ее политического характера. В числе 20 наиболее активных филоматов и филаретов (включая и А. Мицкевича), признанных виновными «в расширении безрассудного польского национализма посредством обучения», Петрашкевич подвергся высылке в центральную часть России с правом поступления на государственную службу, однако без возможности (до особого решения правительства) возвратиться на свою родину и в Вильно. Этот первый этап его изгнания продолжался до периода восстания 1830 — 1831 гг., когда Петрашкевич был обвинен в желании нелегалmно проникнуть на родину и присоединиться к повстанцам. В начале 1832 г. он оказался отправлен уже в Сибирь на поселение, местом отбывания которого ему был определен Тобольск. В 1841 г. получил право поступить на службу «канцеляристом по гражданской части». На основании амнистии 26 августа 1856 г. он смог покинуть Сибирь только в 1860 г. и поселился у брата в Вильно. Умер там же в декабре 1863 г.
Как видно из хранящихся в ГАИО документов, А. Рошковская прибыла в Иркутск в апреле 1844 г. (ГАИО. Ф. 24. Оп. 3. Д. 20. К. 31. Л. 1, 2–2 об., 8). Надо полагать, эти же сведения в равной мере относятся и к ее спутнице, Р. Уминьской.
О сестре В. Жонжевского, Юзефе, ее ссылке и замужестве см. коммент. 18 к данным воспоминаниям.
«У нас теперь появилось малое поле претворения в нашей практике теории о воспитании детей. По правде говоря, со своими собственными детьми дело это совершенно иное и, должно быть, более легкое,— пишет Л. Ручиньская.— ...В эти первые моменты, особенно пока я не узнаю ее характера, недостатков и склонностей, пока не привяжу ее к себе, не втяну в необходимое послушание и порядок, я мало имею свободных минут для себя». И здесь же она делает оптимистичное резюме: «Это является трудом, но не превышающим наши силы. Мы находим милую награду в мысли, что можем быть полезными кому-то, а тем более товарищам по совместно испытываемым страданиям» (Bibl. Polska w Paryzu. Rkps. 478/2. К. 163–164).
«9 окт[я6ря] я была на именинах, даже танцевала немного, хотя и не испытываю от этого ни тени давнего удовольствия, и даже вовсе никакого, но меня сам Юстэк подгонял, ибо находит, что для меня временами хорошо побольше двигаться. После трех кадрилей я была уже очень утомлена, так отвыкнув от танца, но у меня было кем подмениться; моя маленькая ученица Саша щегольнула своим умением, ибо, наконец, выучилась исполнению контрданса. Ее танец произвел огромный фурор и вызвал зависть среди матерей. Несколько лиц уже осаждают меня насчет уроков фортепиано и просили за (плату.— Б. Ш.) уделять час танцу. ...Я в душе рада уже тому, что могу вести более активную жизнь и что кое-что умею, и не только для вида. Конечно, приятнее было бы передавать это умение другим бескорыстно, но в нашем положении можно не отбрасывать этого средства заработка и принять его, не краснея. Впрочем, я буду им пользоваться двояким способом: одних буду учить даром, других — за деньги» (Bibl. Polska w Paryzu. Rkps. 478/2. К. 165).— По этому поводу см. также коммент. 2, 127 к данным воспоминаниям и с. 312–313 предисловия к ним.
Якушкин Иван Дмитриевич (1793–1857) — декабрист, капитан в отставке. Участник Отечественной войны 1812 г. и за граничных походов. Один из учредителей Союза спасения и Союза благоденствия, член Южного общества. По отбытии срока каторги в Петровском Заводе был «обращен» на поселение в Ялуторовск в декабре 1835 г. и прибыл туда в сентябре 1836 г.
Об ялуторовском периоде жизни и деятельности И. И. Пущина и Е. П. Оболенского см. коммент. 106 и 107 к данным воспоминаниям.