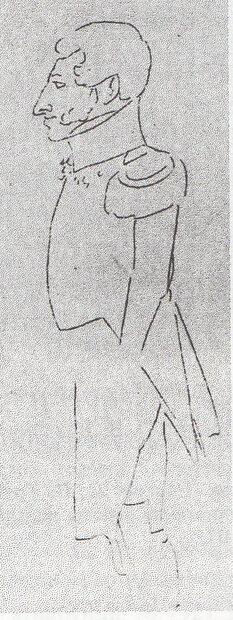От публикаторов
Впервые публикуемые воспоминания графини Зинаиды Ивановны Лебцельтерн, родной сестры Е. И. Трубецкой, представляют безусловный интерес, поскольку содержат много новых биографических данных об одной из замечательных русских женщин, добровольно разделившей тяготы сибирской ссылки со своим мужем — декабристом С. П. Трубецким. Образ этой женщины запечатлен в поэме Н. А. Некрасова «Русские женщины»; ей посвятил проникновенные строки французский поэт Альфред де Виньи в поэме «Ванда»; дань уважения ее самоотверженности отдал польский писатель Юлиан Словацкий в произведении «Ангелли»; своим «добрым ангелом» называли ее те, среди которых она провела 28 лет жизни в Сибири. И вот перед нами еще один документ — воспоминания очень близкого ей человека, друга детства и юности.
Повествуя о судьбе сестры, которой она так гордилась, мемуаристка приводит факты, выходящие за рамки узкобиографического очерка. Прежде всего мы находим здесь подтверждение того, о чем можно было лишь строить догадки на основании немногочисленных косвенных свидетельств современников: Е. И. Трубецкая знала о существовании тайного общества и Участии в нем своего мужа и его друзей.
Приведенные данные позволяют по-новому увидеть и оценить ее героический поступок как действие сознательное, продиктованное не одной только слепой любовью к мужу. Теперь становится очевидным, что действия ее вызваны также чувством сопричастности тому, что произошло впоследствии с С. П. Трубецким. Екатерина Ивановна была, свидетельницей встреч Трубецкого с товарищами по тайному обществу в их доме в Петербурге и Киеве; в ее присутствии часто велись опасные разговоры, за которые можно было бы «сложить головы на эшафоте», и при этом она — жена, друг, любимая женщина — ничего не предпринимала для того, чтобы отвратить мужа от избранного им пути.
Известно также, что у нее, в ванной комнате, хранился литографский станок, купленный декабристом М. С. Луниным для нужд тайного общества.
В своих воспоминаниях С. П. Трубецкой пишет, что, получив «вопросные пункты», в числе которых спрашивалось, кто вызвался нанести удар царствующему императору, «прежде чем отвечать на него, вздумал намекнуть об нем в письме к жене моей».
Там же он упоминает о подозрении Бенкендорфа относительно того — не посвятил ли Трубецкой в тайны заговора 14 декабря свою жену.
Отсюда представляется достоверным поведение Екатерины Ивановны в момент ареста участников восстания, которая «пыталась угадать участь мужа и свою собственную и благоразумно хранила молчание о заговорщиках и о заговоре». Автор воспоминаний с осторожностью пишет о том, что ее сестре «казалось», что члены тайного общества лишь «развлекались тем, что составляли конституцию и планы восстания, называя лиц, которые, по их мнению, подходили для этого». Однако она не берет под сомнение сам факт осведомленности Трубецкой о планах участников заговора.
Записка не содержит каких-либо определяющих новых фактов, связанных с восстанием 14 декабря и судьбой его участников, но она богата подробностями и деталями, до сих пор остававшимися неизвестными. К их числу относится сюжет, связанный с секретарем графа Лаваля К. Воше, сопровождавшим Трубецкую в Сибирь, — первым тайным курьером, положившим начало нелегальной связи между сосланными на каторгу декабристами и их семьями в Москве и Петербурге.
Особую ценность составляют воспроизведенные в записке документы: письма Е. И. и С. П. Трубецких и извлечения из дневника К. Воше. Не меньший интерес представляют сведения об альбоме, в котором, как писала Екатерина Ивановна, «все сделано руками наших товарищей по изгнанию». Описания конкретных фактов и событий даны автором с предельной достоверностью.
Однако современный читатель не должен забывать о том, что автор записки является представителем тех слоев аристократического общества, близких к правительственным кругам, в которых всецело разделялось мировоззрение о незыблемости монархии, а личность монарха считалась священной. Взгляды мемуаристки на совершившиеся события и оценка их основывались на идеологии, в корне враждебной революционному мировоззрению декабристов. Отсюда явная тенденциозность в оценке восстания как заговора «шайки бунтовщиков», предвзятость в характеристиках представителей правящей верхушки. Николай I, по мнению мемуаристки, проявил «решительность» в борьбе с восставшими (расстреляв солдат и мирных жителей); «подарил» жизнь Трубецкому (обрекая его на вечную каторгу); «с пониманием» обошелся с австрийским посланником (после чего, как известно, ему пришлось покинуть этот пост), и так далее. 3. И. Лебцельтерн не могла подняться до понимания того, что против русской действительности вышли на Сенатскую площадь лучшие представители ее же класса, вошедшие в историю России под именем декабристов.
Являясь всего лишь зрителем происходивших событий, хотя и близко ее коснувшихся, рассуждая о них со слов окружающих ее лиц из враждебного революционерам лагеря, не понимая сущности идей и целей декабристов, автор все-таки остается на позиции правдивого очевидца, когда речь идет об описании известных ей фактов. Критически подходя к данным ею оценкам политических событий и деятелей, нельзя не отметить предельную достоверность в изложении ею конкретных сюжетов. Многое в ее воспоминаниях находит подтверждение в других источниках и архивных материалах, и это позволяет нам относиться с доверием к автору в тех случаях, когда она касается событий, до сих пор остававшихся неизвестными, поэтому публикуемая записка в целом является ценным источником.
К моменту событий 14 декабря 1825 года 3. И. Лебцельтерн было 20 лет. Она родилась в семье Александры Григорьевны и Ивана Степановича Лавалей. Их дом являлся одним из культурных центров столицы.
В литературно-музыкальном салоне ее матери собирались выдающиеся поэты, писатели, музыканты, художники, артисты, бывали государственные деятели, дипломаты.
Зинаида Ивановна была европейски образованной женщиной, обладала блестящими музыкальными способностями. Восторженные отзывы о ее игре на фортепьяно в салонах Фикельмон в Петербурге и Эстергази в Вене сохранились в воспоминаниях современников.
В 1823 году она вышла замуж за посла Австрии в России Людвига Лебцельтерна. Этот брак открывал перед австрийским дипломатом двери высшего петербургского общества. Блестящая карьера его неожиданно оборвалась в связи с событиями 14 декабря и участием в них Трубецкого. Лавалей вызывали в III Отделение; в обществе шли разговоры о том, что в их доме было заготовлено революционное знамя. По-видимому, эти далеко распространившиеся слухи и послужили поводом для запроса Меттерниха, который 14 марта 1826 года писал своему послу: «Меня спрашивают из Лондона, как возможно, чтобы мадам Лебцельтерн могла вышивать знамя для конституционной армии?» В результате создавшихся обстоятельств Лебцельтерн в мае 1826 года был отозван из Петербурга. Место посла занял Шарль-Луи Фикельмон.
С его женой Дарьей Федоровной, известной приятельницей А. С. Пушкина, Зинаида Ивановна Лебцельтерн была очень дружна.
Связь Зинаиды Ивановны с родными не прерывалась и после ее отъезда из России. Она неоднократно бывала в Петербурге и знала об условиях сибирской ссылки и жизни там не только из писем сестры, но и по рассказам очевидцев, с которыми встречалась.
Публикуемая записка является копией с подлинника, находившегося во Франции в архиве правнучки Лебцельтерн кн. Робек гр. де Левис Мирепуа, в ее замке ля Морозьер близ Анжу.
Сведения из записки были впервые использованы И. Н. Кологривовым в очерке, посвященном Е. И. Трубецкой, опубликованном во французском журнале «Современные записки» за 1936 год. Там же дана ссылка на местонахождение подлинника. Сохранившаяся в России копия являлась собственностью дочери Трубецких 3. С. Свербёевой и хранилась в ее имении Сетуха Новосельского уезда Тульской губернии. После ее смерти в 1924 году в составе семейного архива она поступила на государственное хранение. В настоящее время находится в ЦГАОР СССР в фонде С. П. Трубецкого (ф. 1143, оп. 1, Д. 98).
При подготовке публикации из текста записки были опущены повторяющиеся сведения и бытовые, не представляющие интереса, подробности из жизни потомков Трубецких и Лебцельтернов. Выпущенные места отмечены отточиями.
* * *
По возвращении в Россию, мать отвела им в своем доме2 комнаты, где они зажили совершенно отдельно, независимо от нее. К тому же она дала дочери хорошее приданое, так что ничто не препятствовало счастью этой семьи, у которой было все — взаимная любовь, молодость, достаток, всеобщее уважение (смею утверждать это!) и все радости жизни. Одного им не хватало — у них не было детей, и это огорчало их.
Через три года после их женитьбы я вышла замуж за графа Лебцельтерна, австрийского посланника при русском дворе, человека весьма умного и любезного, легко привлекавшего к себе симпатии и производившего хорошее впечатление на всех, с кем приходилось ему общаться. Мы жили все вместе в деревне матушки3. Достоинства сестры и ее супруга заставили моего мужа привязаться к ним, и хотя ему известны были либеральные взгляды моего зятя (которых он отнюдь не скрывал), но тот выражал их настолько осторожно, с такой умеренностью, что он никогда не испытывал по этому поводу никакого беспокойства, и у него не закрадывалось ни малейшего подозрения. В конце 1824 года князь Трубецкой, назначенный адъютантом генерал-губернатора Киева и относящихся к нему областей4, отправился по месту назначения. Жена сопровождала его. Казалось, они были довольны новым местожительством, однако к концу 1825 года попросили отпуск и приехали в Петербург, откуда должны были затем вновь возвратиться в Киев. Остановились они в прежней своей квартире, в доме моей матери; мы в ту пору жили у Аничкова моста, довольно далеко оттуда5. ...Смерть императора Александра оживила надежды либералов. Трехнедельное междуцарствование, которое затем последовало, благоприятствовало их деятельности. Великий князь Константин был тотчас же провозглашен императором; все войска принесли ему присягу, во всех церквах возносили молитвы за императора Константина. Однако он еще до того давно отказался наследовать престол, который, в силу его отречения, должен был перейти к его брату, великому князю Николаю. ...Днем 12 (24) декабря император Николай получил все доказательства существования направленного против него заговора6, он должен был вспыхнуть назавтра, в день его официального восшествия на престол. Заговорщики должны были явиться в Сенат и заставить собравшихся там сенаторов принять предлагаемую ими конституцию, в то время как полки, выведенные на площадь для принесения присяги верности государю, должны были отказаться присягать ему и кричать: «Да здравствует Константин!», — ибо воцарение императора Николая изображалось ими как узурпация престола. Говорили, что шайка бунтовщиков должна была прорваться во дворец, перебить сначала часовых, а затем государя и его семью. Но они столкнулись с государем мужественным, твердо решившим сопротивляться всеми средствами, находившимися в его распоряжении. Уже накануне вечером он разослал сенаторам приказ собраться к 7 часам, с тем чтобы, когда явятся заговорщики, в Сенате уже никого бы не было и двери его были заперты. Предупредив императриц, чтобы они не удивлялись и не пугались того, что должно было произойти на следующий день, император самолично отправился проверять свой приказ — удвоить число часовых. Эта мера позволила одержать верх над упомянутыми бунтовщиками, которые не ожидали такого приема и оказались слишком слабыми, чтобы им противостоять; все они обратились в бегство и, кажется, присоединились к своим товарищам на площади7. Государь несколько раз велел обратиться к солдатам с призывом вернуться к выполнению их долга, однако сзади стояли заговорщики, они подстрекали и смущали их. Храбрый и достойнейший генерал Милорадович был убит8 мятежниками как раз в тот момент, когда обратился к ним с отеческой речью. Один из них попытался убить брата императора, великого князя Михаила, но не попал в него9.
Между тем большинство воинских частей оставались верными своему долгу, да и те, которые, казалось, изменили ему, действовали, в сущности, лишь из верности ранее принятой присяге. Видя, что наступил момент действовать решительно, государь повелел привести своего восьмилетнего сына, высоко поднял его и, показывая войскам, провозгласил своим наследником... ...Солдатам был дан приказ стрелять. Двух часов сражения оказалось достаточно, чтобы обратить противника в бегство10. Они бежали во дворы соседних домов, в подвалы, всюду, куда только могли. Я слышала тогда разговоры, что всех их поймали. Когда все было кончено, государь вернулся во дворец, где его ждали все те, кого он пригласил накануне, чтобы поздравить его. Дамы были ни живы ни мертвы, мужчины — чрезвычайно взволнованы. У государыни от нервного потрясения с того дня начала трястись голова, и это осталось у нее на всю жизнь.
...Государь провел весь вечер и ночь, самолично допрашивая арестованных, которых к нему приводили. В домах на Исаакиевской площади во многих окнах оказались разбитыми стекла; дом матушки, находившийся рядом с Сенатом, был в их числе.
Вместе со всей семьей, включая сестру и зятя, она перебралась к своей матери, занимавшей квартиру в доме другой своей дочери, моей тетки11. Дом этот стоял напротив того, часть которого занимали мы с господином Лебцельтерном. Во время мятежа дипломатический корпус находился на площади подле императора. Господин Лебцельтерн, страдавший лихорадкой уже два дня, сам не мог туда отправиться, а послал нескольких молодых чиновников посольства, которые каждые полчаса по очереди приезжали докладывать ему обо всем, что там происходило. Вечером, узнав, что все наши собрались у бабушки, я тотчас же отправилась туда, и так как ей было бы затруднительно устроить у себя всех, предложила моей сестре с мужем провести ночь у нас. Она же, как оказалось, опередила меня и еще ранее приходила к г-ну Лебцельтерну, чтобы просить его о том же. Я обрадовалась этому, как радуются институтки всякому нарушению привычного порядка, и была в восторге от того, что мы проведем с сестрой несколько дней под одной крышей. Мы все вместе пришли к нам домой и сидели в кабинете г-на Лебцельтерна; туда зашло несколько человек, разговор шел о происшедших днем событиях, назывались имена арестованных; зять мой не говорил ни слова, но подбородок его дрожал. Мы знали, что он дружен был с теми, о ком говорили, и его волнение нас не удивляло.
Между полуночью и часом мы разошлись; князь и моя сестра — в мою спальную, которую я им уступила; мне приготовили постель на диване в кабинете г-на Лебцельтерна, который устроился в соседней комнате, так как все еще чувствовал недомогание.
Я крепко заснула и только утром следующего дня узнала о том, что произошло ночью. Между тремя и четырьмя часами г-н Лебцельтерн услышал стук в дверь и узнал голос графа Нессельроде12, требовавшего, чтобы отворили. Он встал, открыл дверь, не понимая, что могло вызвать визит в такой час, тем более, что граф вошел в сопровождении адъютанта государя, князя Андрея Голицына, известного под именем Андре-Мишель13, Граф сообщил г-ну Лебцельтерну, что зять мой находился во главе заговора и что государь требует его к себе для разговора. Г-н Лебцельтерн стал уверять, что этого не может быть, что для подобного подозрения нет ни малейшего основания; он сказал, что сейчас разбудит князя Трубецкого, и все выяснится. Он вошел к князю, тот выслушал его, встал и совершенно спокойно оделся. Когда он вышел к этим господам, у тех невольно вырвалось: «Да, конечно, на преступника он не похож». Тем не менее они увели его, усадив между собой в сани, которые ждали у дверей, и отвезли во дворец. Сестра, очень взволнованная, не хотела отпускать от себя г-на Лебцельтерна; тот, уже совершенно успокоившись насчет ее мужа, который ведь даже не появился на площади, попытался успокоить ее, но затем оставил ее и пошел лечь, чтобы немного отдохнуть. Сестра вышла к завтраку,— она была печальна и встревожена, но держалась довольно спокойно. Мы утешали ее, как могли, даже на мгновение не допуская мысли о том, что обвинение, предъявленное ее мужу, может оказаться справедливым. Это был человек добрый, кроткий, как ангел, он не способен был даже сделать выговора слуге; у него был просвещенный ум, он был полон всяких новых идей, смягченных, однако, свойственной его характеру умеренностью. Разве таков тип заговорщика, главы заговора? Кто мог в это поверить? Всеми уважаемый, всеми любимый, удостоенный доверия порядочных людей, — вот каков был князь Трубецкой; я утверждаю это, — никто из знавших его не мог бы меня оспорить. Все мы нежно его любили. Жена его была совершенно счастлива с ним, страстно любила его, что помогало ей легче переносить свою бездетность.Каковы же были наше изумление и наша скорбь, когда в два часа приехала графиня Нессельроде и подтвердила то, что ее муж сообщил ночью г-ну Лебцельтерну. Мы все еще не смели этому поверить, когда сестре принесли записку, написанную по-русски рукой ее мужа (она и теперь у меня перед глазами). Он писал: «Не сердись, Катя <...> Я потерял тебя и себя погубил, но без злого умысла.
Государь велит передать тебе, что я жив и „живым“ останусь». Эти последние слова, внушавшие надежды на будущее, были дописаны по приказу государя, который читал через плечо князя, пока тот писал; далее следовали слова, выражавшие любовь его к жене. Эта записка ошеломила нас.
Теперь уже не оставалось более ни сомнений, ни надежд. Сестра прочла ее сравнительно спокойно, и ей тотчас же пришла мысль написать князю Александру Голицыну14, человеку порядочному и близкому к государю, чтобы через него просить государя о свидании с мужем или, по крайней мере разрешения переписываться с ним.
Но от волнения она не в состоянии была сама написать это письмо и попросила г-на Лебцельтерна его составить. Он согласился и вскоре прочел то, что написал. Там была такая фраза: «Мой Муж ни в чем не виновен, призываю в том небо в свидетели». — «Нет, — сказала она, — вымарайте эту фразу».
Напрасно он объяснял ей, что никто не осудит жену, которая свидетельствует о невиновности своего мужа.
Ничто-ничто не могло ее убедить, она настояла на том, чтобы фраза была вычеркнута, переписала письмо набело, подписала его и отправила. Через два часа пришел ответ, что ей дозволяется посылать своему мужу все, что нужно, и иметь с ним переписку.
Однако при условии, что письма будут пересылаться открытыми.
Положение Трубецких было ужасным, положение же г-на Лебцельтерна — тягостным и щекотливым. Он, австрийский посланник, мало известный новому царю, в первый же день нового царствования, начавшегося при подобных обстоятельствах, в самый день мятежа, предоставил убежище главе мятежников, который приходится ему зятем, с которым у него были дружеские отношения, чьи намерения, как, по крайней мере, можно было предположить, были ему известны. Будучи опытным дипломатом, он еще прежде почувствовал, что последние три недели происходило что-то необычное, и предупредил об этом графа Нессельроде, который не пожелал прислушаться к этому и, вероятно, не поверил. Ходили слухи, будто это все дело рук Австрии, действовавшей через своего посланника.
Австрии? Но ведь заговорщики ненавидели Австрию, столь беспощадно преследовавшую их и у себя и за пределами своей страны. С какой же целью, ради чьих интересов стала бы она теперь помогать их делам? К тому же, разве предложил бы граф Лебцельтерн убежище своему виновному зятю, заведомо зная, что ему придется выдать его по требованию русского правительства, и понимая вдобавок, что австрийское правительство никогда не простит ему того, что он принял его у себя... ...Как же все-таки могло случиться, что граф Лебцельтерн не разглядел своего зятя? Как? А как случается, что целая семья иной раз долгое время и не подозревает о том, что происходит с кем-то из ее членов, и узнает об этом последней, тогда как это уже всем известно и всеми обсуждается.А объяснялось это тем, что роль князя была известна только в кругах заговорщиков, тогда как все достоинства и даже недостатки его характера, при той крайней сдержанности, которую он всегда проявлял по отношению к нам, начисто исключали какое-либо подозрение подобного рода.
Мы имели несчастье потерять единственного нашего брата в возрасте 21 года, вследствие некоторых безрассудных увлечений молодости15. Помню, как в тот вечер, перед арестом моего зятя, я несколько раз сказала: «Ах! Если бы брат был жив, его, должно быть, втянули бы в это движение; теперь мы можем быть спокойны, нам уже нечего бояться ни за одного из членов нашей семьи». И г-н Лебцельтерн говорил то же самое. Молодые люди из посольства встречали князя и у нас, и в других местах, были о нем самого хорошего мнения; они были знакомы со многими из заговорщиков, видались с ними в знакомых домах, и те никогда не позволяли себе ничего, что могло бы их сколько-нибудь скомпрометировать. Никогда ни одна тайна, известная такому большому числу людей, не сохранялась лучше и добросовестней; одни считали себя связанными клятвой, другие, вероятно, были напуганы ею, но все молчали. Все иностранные посольства и миссии оставались в таком же не ведении, в каком упрекали нас, между тем как глава одного из посольств16 пользовался благосклонностью и даже дружеским расположением великого князя Николая еще до его восшествия на престол; и, насколько мне помнится, когда г-н Лебцельтерн однажды заговорил с посланником Дании, графом Бломом, о возможности заговора, граф Блом, живший в России уже тридцать или сорок лет, отверг эту мысль, говоря: «Да вы что, не знаете эту страну? Никогда ничего подобного здесь не произойдет», — и посмеялся над этим вместе с графом Нессельроде.
Г-н Лебцельтерн отправился к графу Нессельроде посоветоваться, как ему теперь быть. Решено было обо всех обстоятельствах со всей откровенностью доложить государю и спросить его от лица г-на Лебцельтерна — следует ли ему оставить у себя свою свояченицу, княгиню Трубецкую, потому что ему было бы очень тяжело просить ее съехать в тех суровых обстоятельствах, в которых она находится. Послание отправили государю, который ответил, что мужу дозволяется оставить мою сестру у себя.
Причиной обращения к государю было то, что никто пока еще не знал, будут ли арестованы жены и семьи заговорщиков, и г-н Лебцельтерн не хотел отпускать мою сестру, не удостоверившись, что с ней не случится ничего дурного, — он был убежден, что по отношению лично к нему будет проявлена известная осторожность, несмотря на щекотливое положение, в котором он оказался, предоставив приют моей сестре. Государь все это понял, ответ его ободрил г-на Лебцельтерна, и он решил оставить у себя мою сестру до тех пор, пока не надобно будет за нее опасаться. Он был с ней крайне предупредителен, я проводила с ней большую часть времени, стараясь утешить ее и пробудить в ней надежду. Она пыталась угадать, какова будет участь мужа и ее собственная, и благоразумно хранила молчание о заговорщиках и заговоре. Только узнав о том, что главные из них в тюрьме и во всем признались, она стала в разговоре касаться того предмета, о котором часто спорили заговорщики в ее присутствии, ибо она знала их как близких друзей мужа. По всему судя, она считала, что их намерением было дать России конституцию, но что осуществление этого проекта было отложено на совершенно неопределенное время, ей казалось, что это скорее пожелания, нежели намерения, и они просто ради забавы составляют конституцию, вырабатывают планы восстания, намечают людей, которые, по их мнению, могут быть использованы.
Однако как-то в Киеве она была так напугана их речами, что отозвала в сторону Сергея Муравьева (одного из руководителей) и будто бы сказала ему: «Ради бога, подумайте, что вы делаете, вы и нас всех погубите, и свои головы положите на эшафот». Он постарался успокоить ее, говоря: «Неужели вы думаете, что мы не делаем все, что нужно, чтобы обеспечить успех наших замыслов? К тому же, речь ведь идет о совершенно неопределенном времени, не бойтесь же».
Слова сестры, увы, оказались пророческими, восемь или девять месяцев после того, как они были произнесены, Муравьев и четверо его сообщников были казнены на валу С.-Петербургской крепости; князь Трубецкой, приговоренный к 20 годам каторжных работ и на вечное поселение, отправился в Сибирь, а жена его добровольно последовала за ним. Увы! ей не суждено было оттуда вернуться. Та же участь постигла 124 заговорщиков.
Говорили, будто число их доходило до шести тысяч, но больше никого не тронули. Через три недели после того, как жены и семьи заговорщиков были объявлены совершенно непричастными к их делу, сестра моя вернулась к матери, в ту квартиру, которая так полна была для нее теперь счастливых и горестных воспоминаний.
Надобно теперь сказать о том, где находился ее муж в день 14/26 декабря. Военные рано утром должны были приносить государю присягу. Кое-кто говорит, будто решено было, чтобы князь на площадь не являлся17. Так это или не так, но в решающую минуту его там не было. А он был у своей сестры, графини Елизаветы Потемкиной18, жившей неподалеку от Исаакиевской площади. Графини дома не было. Вернулась она не так скоро и сразу же спросила, не приходил ли брат; ей ответили, что он приходил, но ушел или нет — этого никто не видел; его долго искали по всей квартире, пока графине не пришло в голову заглянуть в свою молельню, здесь-то она и обнаружила его лежащим без сознания перед образами, никто не знал, с какого времени. Его подняли, положили на диван, привели в чувство. На все вопросы он отвечал как-то сбивчиво; и вдруг, услышав отчетливый грохот пушки, схватился за голову и воскликнул: «О боже! вся эта кровь падет на мою голову!» Сестра не поняла, что он хочет этим сказать. Князь ушел от нее, когда все уже было кончено, и он смог проводить свою жену и ее родителей к моей бабушке, затем пришел к нам.
Вот все сведения, которые я смогла собрать о том, что делал он в тот роковой день. Ночью он был препровожден во дворец и предстал перед государем. Рассказывали, что государь был гневен и угрожал ему, затем велел пройти в соседнюю комнату и там написать свое признание. Ознакомившись с ним, государь нашел его недостаточным, однако князь ничего больше к нему не добавил. Вот тогда-то он и получил разрешение написать жене ту записку, которая повергла всех нас в ужас и изумление. Когда он входил в покои его величества, была еще ночь, комнаты были освещены слабо, и лицо вновь прибывшего разглядели не сразу. Велико было удивление, когда его узнали, но оно еще возросло, когда он вышел из кабинета государя без шпаги!19 Никто не мог поверить, что он причастен к заговору. Это казалось почти невероятным, ведь все так уважали и по читали его! Его препроводили в крепость, где он оставался до отправки в Сибирь20. Следствие длилось больше шести месяцев. Надо было просмотреть бумаги участников заговора, допросить их, сопоставить их показания; бумаги князя забрал из его кабинета генерал артиллерии Сухозанет21, муж одной из моих кузин; таким образом, доказательства были в руках Следственной комиссии. Когда процесс закончился, был опубликован доклад, где излагалась вся история заговора и давалось резюме признаний его участников. С тех пор заговорщики не раз заявляли, что там неверно было изложено. Может быть, в отношении отдельных подробностей и лиц это и так; но можно ли объявлять неверным самый факт существования заговора, возникшего еще в 1815 году и теперь приведенною в действие? И столь же неоспоримый факт участия в заговоре обвиняемых (оставшиеся в живых еще до сих пор откровенно этим гордятся), тех, кого новые преобразователи почтительно именуют «декабристами»?
Можно было впоследствии оспаривать своевременность наказания, его суровость, длительность его сроков, но оспаривать факт существования заговора было невозможно.
Перед пасхальными праздниками графиня Потемкина, к которой при Дворе относились с благоволением, написала государю письмо, в котором умоляла допустить ее и мою сестру в крепость, чтобы поздравить с праздником дорогого им узника <...> ...Это объясняет просьбу графини Потемкиной, изложенную в самых трогательных выражениях, которая удовлетворена была без промедления.
Обе они могли немного утешиться, проведя с князем вечер в крепости, правда, в присутствии коменданта, который приказал принести самовар и попросил сестру разливать чай, чтобы муж ее хоть на мгновение почувствовал себя как дома. Сестра навсегда сохранила воспоминания об этом вечере и без конца рассказывала нам о нем тысячи мельчайших подробностей.
Между тем, положение г-на Лебцельтерна становилось невыносимым, несмотря на деликатность и такт, проявляемые государем по отношению к нему. В Вене это понимали; его отозвали в тот самый день, когда он собирался обратиться к князю Меттерниху с просьбой об этом. Как раз в это время оказалось, что я беременна, и в конце мая мы спешно выехали в Вену, не попрощавшись даже с моей семьей. С тех пор я никогда больше не видела сестры.
В июле был объявлен приговор Следственной комиссии: Пестель (наиболее виновный из всех главарей), Сергей Муравьев, Рылеев (поэт), Каховский и Бестужев-Рюмин приговаривались к лишению гражданских прав и к повешению; остальные — к лишению гражданских прав, к каторжным работам в Сибири, одни пожизненно, другие на 20, 15, 10 и 5 лет, а затем на вечное поселение. Как и обещал государь, зятю была сохранена жизнь, он был приговорен пожизненно. Приговор был приведен в исполнение. Поскольку в России не существовало смертной казни за преступное деяние, совершенное группой лиц (военных же преступников обычно расстреливали, что случалось весьма редко), во всей России не оказалось палача и его выписали из Швеции. По его ли вине, или же какой другой причине, но под троими из приговоренных оборвалась веревка, они упали с довольно большой высоты и, говорят, громко кричали, требуя, чтобы их прикончили. Кто-то предложил доложить государю об этом неожиданном происшествии в надежде, что этим троим будет дарована жизнь, но генерал, распоряжавшийся казнью, воспротивился этому и отдал приказ их немедленно снова повесить, что тотчас же и было исполнено. В числе этих дважды казненных были, мне кажется, Муравьев и Каховский, не помню, кто был третьим. Этот жестокий поступок генерала отвратил от него все сердца. Сейчас над ним совершился уже божий суд, и мне не следует больше рассуждать об этом печальном предмете. Оставшиеся в живых вскоре были отправлены в Сибирь; им надели кандалы, однако не заковывали по двое, как это делают согласно ужасному обычаю, принятому в так называемой цивилизованной Европе. Через некоторое время весь двор отправился в Москву на церемонию коронования государя.
Моя сестра, решившая последовать за своим мужем, уже предприняла для этого некоторые шаги; к ней присоединились княгиня Мария Волконская и еще несколько дам. Но правительство отговаривало их, пугая тем, что у них не будет там слуг, что им придется самим себя обслуживать, и представляя им все трудности задуманного предприятия. Косвенный отказ этот их не остановил. Сестра вместе со своей матерью отправилась в Москву просить аудиенции у государыни и умолять ее добиться от государя этой милости для себя и других жен. Государыня, обожавшая императора, понимала, что всякой жене свойственно такое же чувство к своему мужу. Она благосклонно приняла мою сестру, была тронута ее горем и обещала просить за нее. Государь, уже и прежде давший согласие на то, чтобы сестра была принята государыней, теперь разрешил нашей дорогой просительнице последовать зову сердца, а также уведомить своих подруг по несчастью, что и им также дозволено ехать. Но как пуститься двадцатипятилетней женщине в такое дальнее путешествие одной без всякой защиты? Так как никто из родных не мог сопровождать ее, с ней вызвался поехать секретарь моего отца — швейцарец г-н Воше, обещавший не оставлять ее до тех пор, пока не доставит к мужу. Это был с его стороны поистине самоотверженный поступок, ибо он плохо говорил по-русски и страдал грудной болезнью. Дело было осенью, а если в России — осень, то в Сибири — уже настоящая зима. Правительство не возражало против этого.
У меня сохранились записки об этом путешествии, написанные целиком рукой г-на Воше. Путешествие продолжалось шесть недель, ехали днем и ночью, и хотя у сестры началась лихорадка, она так стремилась догнать князя и так боялась, что это ей не удастся, что не желала слушать никаких уговоров. У нее была одна мысль: вперед, все время вперед, чтобы скорее добраться до Иркутска.
И в каком экипаже! Не в порядочной дорожной карете, какие делаются в Европе, а в кибитке или тарантасе, даже описать которые я не берусь, — единственно возможное средство пере движения для путешествий такого рода. Однажды на них напали воры.
Сестра кричала кучеру: «Не останавливайся! Гони! Вперед! - Кучер ей во всем повиновался, и воры, которые были пешими и не могли их догнать, отстали, опасность миновала, и путешественники прибыли в Иркутск целыми и невредимыми. Г-ну Воше удалось проникнуть в тюрьму, и каково же было изумление и радость заключенных, когда они его увидели! Многие из них знали его по Петербургу, мой зять ежедневно видел его у моего отца. «Князь, — сказал он ему,— я вам привез княгиню, она здесь, в Иркутске». При этих словах князь бросился обнимать его, стал расспрашивать о всех подробностях их отъезда, путешествия, и т. д. и т. д. Только на следующий день свиделась сестра с князем. Можно представить себе их встречу! После этого она виделась с ним, насколько я помню, два или три раза в неделю. Г-н Воше отправился в обратный путь. Едва он возвратился в Петербург, как правительство, под предлогом якобы совершенных им оплошностей, распорядилось выслать его. От этого он отнюдь не проиграл.
В Швейцарии он познакомился с одной англичанкой, которая до того восхищена была рассказами о его благородном поступке, что в конце концов вышла за него замуж, а поскольку у нее было состояние и это была очень милая особа, брак этот составил счастье доброго Воше; впрочем, он довольно рано умер от той самой болезни, которой пренебрег, отправившись в Сибирь.
В Иркутске ссыльные должны были только сделать остановку, местом их назначения был Нерчинск, недалеко от Кяхты (или Маймачина) на китайской границе, где добывают серебряную руду. Путь их лежал через Байкал, была уже глубокая осень, надобно было торопиться, пока озеро не замерзло. Внезапно наступившие холода заставили ускорить отправку ссыльных. Однажды утром сестра узнала, что мужа и его товарищей увезли.
Куда? Почему? Никто не мог ей этого сказать. Она могла бы справиться у губернатора, но она никому и ничему уже не доверяла и предпочла отправиться в путь одна, пешком, не зная толком, в какую сторону идти.
Она вышла из города и шла по большой дороге до тех пор, пока хватило сил. Губернатор, которому сообщили об этом, послал ей вдогонку людей. Ее нашли лежащей на снегу, изнемогающей от усталости и голода, подняли и уговорили вернуться в Иркутск, успокоив насчет участи ее мужа. И объяснив причину внезапного его отъезда22. Там ее навестил губернатор, который подтвердил все, что было ей сказано, и обещал отпустить ее и других дам23 , как только установится зима. Обещание свое он сдержал. Первое время пребывания в Нерчинске, не осмеливаясь обратиться к властям и еще не зная, что им будет дозволено получать сумму в 12 000 рублей ежегодно для удовлетворения своих нужд, моя сестра и княгиня Волконская, дабы подольше протянуть деньги, которые они привезли с собой, решили тратить их как можно экономнее и только на своих мужей. Для них они каждый день покупали молоко, мясо, хлеб, которые были им необходимы, сами же довольствовались хлебом с луком. Князь уверял меня, что они прожили так восемь месяцев, никогда ничего не говоря своим мужьям.
Два раза в неделю женам разрешалось навещать их и беседовать с ними.
В остальные же дни они приходили на определенное место, мимо которого проводили арестантов, и молча на них смотрели. Но даже и в те дни, когда им разрешены были свидания, они, несмотря на сильные морозы, оставались на улице. В один из таких дней князь, заметив, что у жены распахнуты ее меховые сапожки, попенял ей за это. Оказалось, что она вытащила из них тесемки и пришила их к шапке, которую смастерила для одного из заключенных, чтобы тот мог защитить голову от ужасного холода, царившего внутри шахты. Она тогда отморозила себе ноги. Потом, казалось, все это прошло, но спустя какое-то количество лет она уже не могла ходить, ее возили в кресле. А впоследствии, наоборот, она носила свои зимние сапожки летом, так как все отдала товарищам по несчастью, и ей не на что было купить себе башмаки. Об этом родные ее узнали слишком поздно, — я тотчас же послала ей тогда 12 тысяч франков сверх того, что ежегодно посылала ей мать, давно превысившая сумму в 12 000 рублей, установленную правительством. Несколько лет сестра провела в Чите и Петровском, откуда прислала мне альбом, в котором обложка и рисунки сделаны руками арестантов, в нем были виды Читы и ее окрестностей, Дамская улица в Петровском, наружный вид тюрьмы и нарисованные красками букеты цветов, представляющих тамошнюю флору. На первой странице сестра написала собственноручно несколько строк, проникнутых самым возвышенным Религиозным чувством и глубочайшим смирением...
В Петровском для наших ссыльных была построена тюрьма, комендантом ее государь назначил поляка Лепарского, человека прямодушного и мягкосердечного. Арестанты вскоре стали относиться к нему, как к отцу, и не могли нахвалиться его добротой и вниманием к себе. Несколько раз просил освободить его от подобной должности, но государь всякий раз его уговаривал остаться и удваивал ему жалованье.
Я уже упоминала, что арестанты весь свой путь пробыли в кандалах. Через полгода их изгнания государь, отправляясь на войну с Турцией, по обычаю отправился в собор, чтобы помолиться о победе. Перед собором ждала его дорожная карета. Государь был очень растроган, спускаясь по ступеням к карете, он сказал шефу жандармов Бенкендорфу <…>: «Пусть снимут с них кандалы». Бенкендорф все понял и без промедления послал приказ. Он прибыл в воскресенье; арестантов собрали в одно помещение, чтобы прочитать им приказ государя.
Все спрашивали друг у друга, что бы это могло значить, и со страхом ждали новых строгостей. Едва приказ был прочитан, как с них тотчас сняли кандалы... Моя бедная сестра писала нам незадолго до того: «Не могу привыкнуть к звону кандалов Сергея, это ужасно». Не думаю, чтобы они причиняли очень сильные физические страдания, говорят, их сделали как можно более легкими, однако одна мысль о них приводила нас в содрогание, и мы понимали чувства сестры. В Петровском жены сначала поселились, где кто мог, в крестьянских избах. Позднее они стали строить дома, которые и образовали улицу, названную Дамской <...>.
Их мужьям разрешено было проводить с ними день; в 9 часов вечера они обязаны были вернуться в тюрьму; жены могли провожать их туда и оставаться там до утра. От своих родных они получали каждый год белье, одежду, вино, табак, книги, газеты, паштеты, варенья и даже пшеничную муку, чтобы печь хлеб, так как в эти края ее не привозили. Иные присылали музыкальные инструменты и физические приборы; некоторые из мужчин, люди образованные и любознательные, читали лекции из той области, которую лучше всего знали, другие их слушали. Кое-кто из тех, у кого срок ссылки был короче, уже вернулись в свои семьи, но без права жить в С.-Петербурге и Москве.
Мой зять был приговорен к 20 годам каторги, после которых должен был навечно поселиться где-нибудь в Сибири. На каторге он провел 13 лет, после чего всех отправили на поселение, но не в одно место, как это было до сих пор, — их разъединили и расселили по разным местностям, более или менее отдаленным друг от друга. Таким образом, то, что, казалось, должно было облегчить их участь, сделало ее тяжелей, вследствие разобщенности. Моего зятя отправили в маленькую деревушку Оёк, в трех часах езды от Иркутска. Крестьяне там были совершенными дикарями, средств к существованию у поселенцев не было никаких, и я не знаю, как им удалось найти там жилье. Не помню только, сколько времени они там оставались, знаю только, что сестра получила разрешение поехать в Иркутск в связи с болезнью одного из детей24. Немного позднее ее мужу позволили съездить к ней и детям, затем, с молчаливого согласия властей, они в конце концов остались в Иркутске и больше в Оёк не вернулись.
Моя мать велела купить и подарила сестре прекрасный дом с садом. Губернатором Иркутска был генерал Муравьев25, которым ссыльные не могли нахвалиться...
...В то время в Иркутске открыта была казенная гимназия для девиц. Директрисой ее назначили г-жу Кузьмину, которая в прошлом была гувернанткой дочерей другой моей сестры, а затем стала их другом. Моя мать обратилась к государю с просьбой позволить двум младшим ее внучкам туда поступить, позволение было получено, однако сестра ничего этого не знала. Еще перед тем наследник, великий князь Александр, добился от отца, чтобы дети ссыльных воспитывались бы в казенных учебных заведениях, что должно было в дальнейшем послужить к их восстановлению в правах, ибо положение осужденных родителей было равносильно гражданской смерти, и дети их, родившиеся в Сибири, поставлены были вне закона. Однако, когда с этим предложением стали обращаться к их родителям, они резко высказались против подобного проекта, который разлучал их с детьми и грозил бы серьезными затруднениями. На это государь велел ответить, что предложением этим полагал лишь сделать приятное, но что отнюдь не собирается никого принуждать. Еще до того, как стал известен ответ государя, сестра написала мне по этому поводу полное отчаяния письмо. Узнав, что при желании они могут оставлять детей при себе, матери успокоились. Разрешение поместить дочерей в Иркутскую гимназию, о котором она вовсе не просила, привело мою сестру в ужас, но на этот раз отступать было невозможно, и мало-помалу она свыклась с мыслью отдать их под руководство особы, которой она доверяла и в преданности которой была уверена.
По истечении нескольких лет, когда она забрала дочерей домой, сестра уже с благодарностью вспоминала о решении, которое приняла наша мать без ее согласия. Старшая из этих двух девушек вышла замуж за г-на Петра Давыдова26, сына одного из ссыльных, которому государь разрешил провести некоторое время в Иркутске, у отца. Несколько месяцев спустя вышла замуж и самая старшая моя племянница — за г-на Николая Ребиндера, губернатора Кяхты 27. Выходя замуж, обе сестры получали гражданские права как жены своих мужей, в 1850 году мы имели несчастье потерять нашу мать, состояние ее поделено было между ее четырьмя дочерьми. Поскольку сестра отправилась в изгнание добровольно, ей не предъявлялось никакого обвинения и она не подвергалась никакому суду, она получила свою часть наследства, что позволило ей дать дочерям приданое. ...Вскоре после смерти матери сестра заболела, и в конце концов у нее обнаружили чахотку. Но нам об этом не сообщили. Мы издавна знали, что она страдает грыжей, из-за которой не может ходить, и что по дому и саду ее возят в кресле. Поездка в Кяхту, как видно, тяжело отразилась на ее здоровье, и каково было наше удивление и наше горе, когда мы узнали о ее грудной болезни и смерти, последовавшей 14 октября 1854 года...
Последний раз сестра болела недолго, всего несколько дней, и лишь за неделю до конца возникло опасение за ее жизнь. За три дня до своей смерти она потребовала священника и приняла последнее причастие спокойно и умиротворенно. Днем ей стало несколько лучше, и в разговоре с мужем она сказала о том, какою чувствует себя счастливой рядом с ним, с дочерью и сыном28, которому было в то время 13 лет, и о том, как ей хорошо, и что в этом мире ей нечего больше желать... Спокойная за судьбу тех детей своих, которых сохранил ей Бог, смирившаяся со своей участью, она в этот момент смогла произнести слово «счастье». Ночью она ненадолго впала в беспамятство, а придя в себя, снова потребовала священника и на следующее утро спокойно умерла29, без страданий и агонии, на руках у мужа, склонив голову ему на грудь, младшая дочь и сын присутствовали при этом.
Ей было около 54 лет, 28 из них она провела в Сибири. Все оплакивали ее, ибо все, кто ее знал, уважали и любили ее, высоко ценили ту ее беспримерную преданность, постоянными свидетелями которой являлись. В день похорон гроб ее несли на своих плечах монахини монастыря, которому она сделала много добра. Бедные эти девушки ни за что не хотели позволить, чтобы кто-то другой занял их место у гроба.
Спустя четыре месяца, 25 февраля я получила от зятя следующее письмо в ответ на то, которое я послала ему, узнав о поразившем всех нас горе. «Дорогая Зинаида, я мог бы раньше ответить на твое письмо, но оно так меня взволновало, что понадобилось время, чтобы прийти в себя и спокойно тебе написать. Ты верно почувствовала, милый друг, все, что я пережил. Ты щедро воздала должное своей сестре, все это так, все это она заслужила. Твое письмо полно такой нежной и неизменной дружбы, которую не властно разрушить ни время, расстояние и которая и поныне осталась столь же пылкой, столь же горячей, какой была во времена нашей юности. Как выразить тебе все, что я почувствовал при чтении твоего письма? Достаточно сказать, что я плакал над ним, как ребенок. Твоя сестра платила тебе такой же любовью. Как она оплакивала твоего мужа! Как горевала она, узнав о смерти твоей внучки! Невозможно передать тебе, до какой степени она привязана была к тебе и к Софи30, так же как и к вашим семьям. Ты спрашиваешь, вспоминала ли она о вас в последние свои минуты? Она всегда о тебе помнила, часто говорила о вас и во время своей болезни, но последнее имя, которое она произнесла, было имя ее младшей дочери, той, что носит твое имя и чья судьба в связи с некоторыми обстоятельствами, быть может, известными тебе из ее писем к Софи, занимала ее в тот момент более всего. Она спокойно покинула сей мир, склонившись ко мне на грудь, так что я даже не заметил последнего ее вздоха... Мне не хватает ее, но я о ней не плачу; я верю, что душа ее все время с нами, как и мои мысли постоянно с ней. Я буду жить дальше, не жалуясь, до тех пор, пока бог в мудрости своей сочтет это необходимым, ибо убежден, он не допустит, чтобы я без пользы прозябал в этом мире, когда уже не нужен стану никому из моих близких. Я признателен тебе, дорогая Зинаида, за предложение сделать что-нибудь для меня. Но о чем могу я просить тебя? О дружбе к моим детям? Я уверен, что ты и без того ее им уже подарила. Давай мне время от времени знать о себе, о твоей дочери — вот о чем прошу я тебя сейчас, что ж до будущего, то оно в руках божьих. Что касается состояния моих детей, здесь я рассчитываю на своего зятя, он все устроит так, как хотела моя жена, в этом я уверен. Софи так любит моих детей, что я не мог бы желать большего, и не откажется при случае быть им полезной. Мне остается, следовательно, благодарить бога за то, что он дал моим детям столь добрых и достойных родных. Мой долг теперь — воспитывать младшую дочь, пока она со мной, и развивать задатки тех хороших качеств, которыми про видение одарило моего сына. Он еще мал, ему нет и 12 лет, а я отнюдь не рассчитываю прожить так долго, чтобы Успеть завершить его воспитание, но я спокоен за его участь, ибо уверен, Что среди родных, которые принимают в нас такое участие, у него не будет недостатка в покровителях. Я прощаюсь с тобой, миллион раз целую твои руки и прошу передать нежный привет твоей дочери, которая, я уверен в этом, разделяет наше горе».
В день смерти нашей незабвенной героини сестра другого изгнанника (князя Сергея Волконского), княжна Софья Волконская, написала моему зятю графу Александру Борху письмо, в котором сообщала ему, а тем самым и мне, о только что постигшем нас несчастье31. Выражая свое участие, она писала: «...мне остается лишь присоединиться к тому чувству скорби, которое разделяют все ее друзья, можно сказать, весь город; ее приветливый характер, увлекательная беседа, благожелательность к каждому делали ее женщиной исключительной, она была утешением для несчастных, опорой для друзей своих». Остальная часть письма содержит примерно те же подробности, что и письмо князя. 19 ноября моя сестра Борх писала мне: «Увы! Прощай, дорогая наша добрая сестра, она умерла на той земле изгнания, где 28 лет служила опорой и утешением бедному своему мужу и где неизменно была провидением для стольких несчастных. Она была так молода, когда уехала от нас, а я оплакиваю ее так, словно она только вчера покинула нас; впрочем, за 28 лет ее добровольного изгнания мы с ней поддерживали такие тесные отношения, что ее утрата оставляет во мне огромную пустоту. Не могу подумать о несчастном Сергее без боли в сердце. Понимаешь ли ты, какие муки, какое горе должен он испытывать при мысли, что пережил эту бедную женщину, которая по всем законам природы должна была бы пережить его. В пору этого жестокого его испытания княгиня Волконская, как и все их иркутские знакомые, принимает в нем большое участие». — Что могу я прибавить к этим столь заслуженным похвалам? Все слова мои были бы бледны по сравнению со строками, написанными ею самой во время одного из самых ужасных испытаний. Я уже рассказывала ранее о внезапном отъезде заключенных некоторое время спустя после их прибытия в Иркутск и о бегстве моей сестры, которая собиралась пешком пойти вслед за своим мужем. ...Она написала тогда отцу следующее письмо: «Иркутск, 9 октября. На днях я написала несколько слов матушке, дорогой отец, но, несмотря на это, я не хочу пропускать почту, не сообщив вам о наших новостях. Три дня тому назад Сергея отправили в Нерчинск. Я еще не пришла в себя от удара, нанесенного мне этой новой разлукой. Должно быть, вам известны условия, на которых мне разрешили поехать за ним. Ради бога, не печальтесь, дорогие мои родители; я думаю, что подобные условия существовали всегда, и во всяком случае естественно, что в теперешних обстоятельствах их пускают в ход. Конечно, мне нелегко приносить подобные жертвы, а мысль об огорчении, которое они причинят вам, разрывает мне сердце. Я не могу не печалиться, думая о том, что вам придется пережить, зная, что я в нищете, но, дорогие родители, не говоря уже о любви моей к мужу, могу ли я выбирать между самым священным, самым дорогим для меня долгом и собственным благополучием, которого бог наверняка лишил бы меня, если бы я покинула своего мужа. За последние десять месяцев я убедилась, что не могу жить без него и единственное, что остается мне в этой жизни, это разделить с ним его страдания... Мне еще не разрешили ехать вслед за мужем, я должна дожидаться известия о его прибытии, которое дойдет сюда, я полагаю, не раньше как через три недели; к тому времени еще невозможно будет переехать через Байкал и придется ждать здесь до тех пор, пока он не замерзнет, а это может произойти через два или три месяца. Бог испытывает мое терпение, и я надеюсь вынести эти тяжелые страдания согласно его воле, надеюсь на это, потому что рассчитываю не на себя, а на всемогущую милость его и на его помощь. — Прощайте же, дорогие родители, да хранит вас бог и да поддержит он вас ради всех детей ваших, даже тех, кто так далеко сейчас от вас. Пусть за все мои горести дарует мне однажды радость — узнать, что вы немного успокоились, пусть счастье милых моих сестер утешит меня в моих испытаниях. Благословите нас обоих. Целую вам руки и от всего сердца нежно обнимаю». — Что могу я добавить к этим строкам, какой панегирик может сравниться с величием этих слов, с возвышенностью чувств, выраженных столь горячо и просто. ...После смерти ее состояние было разделено между ее наследниками; по закону князю, лишенному гражданских прав, не полагалось ничего; так как все его дети родились после его осуждения, они находились вне закона, за исключением двух старших замужних дочерей, которые уже обрели свои права в качестве жен своих мужей. Благодаря этому сестра смогла подарить своей дочери Давыдовой прекрасное имение в Крыму32, собиралась дать имение в Пензенской губернии и хотела также обеспечить и будущее князя. Смерть унесла ее прежде, чем она могла выполнить эти свои намерения, и неизвестно было, как уладить наследственные дела, когда через четыре с половиной месяца после смерти сестры, 2 марта 1855 года, скончался император Николай. Теперь Надежда на возвращение изгнанников и решение дел, связанных с наследством было задержано до объявления воли нового государя, который не мог, однако, начать совей царствование с отмены распоряжений своего отца. Дело затянулось еще почти на год. В 1856 году состоялась коронация. Ей предшествовал указ об амнистии33, восстанавливавшей в правах сибирских изгнанников и возвращавшей им свободу. Как это ни невероятно, но некоторые из них отказались воспользоваться ею, они уже привыкли к тому образу жизни, который вели в Сибири, и полюбили его.
Мой зять оказался в их числе. Ему не только нравилось в Сибири, но он не мог решиться оставить могилу дорогой своей подруги, разделившей его страдания, той, что ради него бросила все и принесла себя в жертву.
Больших трудов стоило убедить его изменить свое решение, наконец, он согласился ради детей своих. Младшая дочь Зинаида только что вышла замуж за Николая Свербеева34, молодого человека из почтенной московской семьи, служившего в Иркутске. Красота и ангельская доброта юной сибирячки так пленили его, что он обещал ей остаться в Сибири до тех пор, пока там останется князь. Но в конце концов тот все же нашел в себе силы расстаться с дорогой могилой и этим домом, в котором видел столько счастья и столько горя. Он уехал с зятем и детьми после 30 лет ссылки, увозя с собой воспоминания о тяжких превратностях судьбы. Ему было 37 лет, когда он оказался в Сибири, и 67, когда он оттуда уехал. Сначала ему не разрешили жить ни в С.-Петербурге, ни в Москве; он поселился в Киеве, рядом со своими дочерьми Давыдовой и Ребиндер, муж последней занимал там тогда довольно значительный пост35; позднее, когда его перевели в Одессу, зять с сыном переехали туда. Через некоторое время Ребиндер получил новое назначение. Князь добился разрешения поехать в Москву, повидаться там с моей сестрой Борх и ее мужем. Ему разрешили там и остаться. В дальнейшем ему позволено было съездить и в С.-Петербург, навестить свою дочь Ребиндер, у которой уже тогда началась грудная болезнь.
Когда ей стало лучше, он вернулся в Москву, к своей сестре графине Потемкиной, бывшей теперь замужем за г-ном Подчасским. В 1858 году князю разрешили поездку в Варшаву, куда съехались многие из членов нашей семьи по случаю бракосочетания мо его племянника, сына графа Станислава Коссаковского и моей младшей сестры36 и где мы с князем должны были встретиться. Покинув Неаполь я провела месяц в Вене, а затем, вместе с г-ном Кампанья, калабрийским поэтом, за которого я вышла заму после смерти графа Лебцельтерна, правилась в Варшаву. Мы ехали железной дороге; в первых числах июля в полночь мы прибыли Варшаву. Ярко светила луна. Только я вышла из вагона, как рядом раздался хорошо знакомый голос князя, которого я не слышала уже столько лет, — он назвал меня по имени, и через мгновение мы были в объятиях друг друга, не в силах произнести ни слова. Ведь мы не видались с того вечера 26 декабря 1825 года, когда он вместе с женой пришел провести ночь под нашим кровом, а через несколько часов был арестован и отвезен к государю. Нам живо вспомнилось все прошедшее, но радость нашей встречи, на которую мы почти уже и не надеялись, была омрачена отсутствием той, которая столь пламенно всегда желала оказаться среди всех нас и о возвращении которой мы столько молились. Она навеки осталась лежать той холодной земле изгнания, где только выстрадала ради любимого ею упруга, который не мог теперь утешиться, что стоит передо мной без ...Князь познакомил меня с сыном, которому в ту пору было 15 лет, он оплакивал свою мать, жалел о жизни в Сибири, а все остальное мало интересовало его. Теперь он женат на очаровательной княжне Вере Оболенской37, с которой живет в полнейшем согласии. В Варшаве мы провели десять дней, ежедневно видясь с князем. Коссаковские и их прелестная невестка (графиня Олеся Ходкевич) приняли нас весьма гостеприимно, а приятное общество оказали нам самый доброжелательный прием. Князь и его сын вернулись в Москву. Прошло два года, и мы снова уехали из Неаполя, на этот раз в Дрезден, где были свидетелями последних дней г-жи Ребиндер, болезнь которой зашла слишком далеко... ...Князь Трубецкой особенно нежно любил свою дочь Ребиндер, которая отвечала ему тем же. И однако ему было трудно поверить, что она действительно так тяжело больна, как ему о том писали. Известие о смерти любимой дочери явилось для него полной неожиданностью. Таково свойство этой болезни — до последнего момента поддерживать иллюзии у больных и их близких. Князь пережил дочь всего на четыре месяца. Удар казался для него смертельным, после нескольких дней болезни сердечный Приступ вызвал нечто вроде апоплексии, от которой он и скончался... ...Прежде чем закончить этот рассказ, скажу несколько слов об образе жизни, который вели наши изгнанники в Иркутске. Завтракали, обедали и ужинали всей семьей. Днем каждый занимался своим делом, вечерами все собирались вместе. Сестра принимала у себя, устраивала для друзей обеды и давала вечера, на которых бывало очень весело. Часто все семейство приглашал к себе губернатор. Еще и поныне ее дети охотно вспоминают о том веселье, которое постоянно царило в их семье, и я не раз слышала, Свербеев говорил: «Как нам тогда было весело!» Все они страстно любили Сибирь, и бедному Свербееву очень хотелось туда вернуться. Они находили петербургский климат отвратительным по сравнению со своей дорогой Сибирью, где почти никогда не бывает таких ветров, как в С.-Петербурге, да еще при 15–20-градусном морозе. Что же сталось с иркутским домом38, который был покинут после смерти той, которая была его душой?
Об этом я ничего не знаю, собирались продавать его, но нашлись ли покупатели?
Г-н Хилл, англичанин, совершивший путешествие по Сибири и Камчатке, будучи в Неаполе, рассказывал мне, что те четыре месяца, что он провел в Иркутске, были самыми приятными в его жизни. Каждый день он бывал у Трубецких и Волконских, Он заставлял будущую г-жу Ребиндер читать Мильтона по-английски, а та в свою очередь составила для него небольшую записку, тоже по-английски, о произведениях русских поэтов.
Г-н Хилл выпустил описание своего путешествия в двух томах39, где рассказывает обо всех этих подробностях <...>. Закончу свой рассказ описанием внешности той, чью жизнь я здесь поведала. Была она среднего роста, в ту пору, когда выходила замуж, была очень изящна, у нее были прекрасной формы плечи, белая кожа и на редкость красивые руки. Лицом она была не так хороша, после оспы, которой она переболела, кожа на нем потемнела, погрубела и сохраняла кое-где следы этой ужасной болезни. Когда сестра родилась, в России еще не прививали детям оспу, а знали только прививку, благодаря которой болезнь протекала слабее и оставляла не очень заметные следы. У Екатерины были небольшие синие глаза, добрые и приветливые, не очень густые брови, довольно маленький рот и толстые губы.
Лицо ее немного портил несколько крупный, вздернутый нос, впрочем, оно было приятным, хоть и не красивым. После замужества она совсем перестала следить за своей внешностью, отчего весьма пострадала ее талия, она растолстела и в 25 лет выглядела сорокалетней. И одевалась она под стать этому возрасту, что еще больше ее старило. Муж позволял ей носить только закрытые платья, а у нее не было другой мысли, как нравиться ему, лишь бы он был доволен, ничего другого она не желала, всякое самолюбие было отброшено.
Нрав от природы у нее веселый, мысли свои она выражала с приятностью и оригинальностью, так-что беседовать с ней было истинным удовольствием.
Манеры ее были просты и благородны, характер имела страстный и даже довольно вспыльчивый, сердце же доброе, нежное, чувствительное, восприимчивое к чужому горю. У нее не было склонности к наукам, целыми днями она читала, лежа на диване, любила читать романы, но с годами, когда в этом возникла необходимость, начала читать и серьезные книги. Она много вышивала на пяльцах — и по канве, и гладью, выполняя прекрасные работы шерстью, шелком и особенно синелью. Я до сих пор храню ковер, вышитый ею в Сибири. Она бывала чрезмерно расточительна, не имея привычки рассчитывать, и тратила больше, нежели позволяли ее средства. Муж ее был таким же непредусмотрительным, из-за этого они, даже в Сибири, порой испытывали большие затруднения и бывали вынуждены занимать деньги под проценты, доходившие до 20. Князь был человеком чрезвычайно скромным в своих привычках, он не позволял себе никаких излишеств и всегда готов был помочь другому. Сестра никогда не была злопамятна, ей незнакомо было чувство зависти, она искренне радовалась чужим успехам и всегда прощала тех, кто причинял ей зло; она была правдивой, искренней и откровенной, но научилась молчать в тех случаях, когда считала, что это в интересах ее мужа. У меня есть довольно хороший ее портрет работы м-ль Сесиль Модеи, относящийся ко времени ее замужества в Париже, и фотография, сделанная в Иркутске в последние годы ее жизни, поразительно похожая. Выше я упоминала о том, что она прислала мне из Петровского альбом, в котором она написала следующие строки: «Дорогая Зинаида, вот альбом, который, думаю, будет тебе интересен. В нем все напоминает о наших первых годах в изгнании. Если ты найдешь, что он скверно сделан, прошу тебя быть снисходительной, рисунки, цветы и даже переплет — все сделано руками товарищей по изгнанию. На переплете изображены — с одной стороны внешний вид большой читинской тюрьмы, с другой — дом Александрины40, здесь, в Петровском.
Что касается рисунков, я всюду сделала к ним пояснения. Пусть не огорчает тебя то, что изображено на них, милый друг. Скажи себе, глядя на все эти места, что если и были они свидетелями печальных для нас дней, они видели и немало радостных минут.
Завтра мы покидаем Петровское, полные воспоминаний о тех милостях, коими не оставлял нас господь в течение этих тринадцати лет, благодарности за божественную доброту его, утешая себя мыслью, что где бы мы ни оказались, до тех пор, пока мы будем уповать на бога, он всегда будет с нами, дабы защищать и утешать нас.
Я дала волю своему перу, потому что знаю, эта книга не будет у тебя валяться на столе и ты не станешь всем ее показывать, она представляет интерес лишь для тех немногих, кто действительно меня любит. Петровский, 26 сего месяца, 1839 года».
Добавлю к сему, что святая эта женщина, эта добровольная изгнанница, которая старалась таким образом еще утешать других, чтобы они не принимали так близко к сердцу ее же горести, делала все, чтобы смягчить страдания своих ближних. Она удочерила, воспитала, выдала замуж и дала приданое дочери одного из изгнанников, г-на Кюхельбекера. Если не ошибаюсь, она усыновила еще одного ребенка41.
Я собиралась написать лишь историю моей сестры и всего того, что с ней связано непосредственно, но могу ли я обойти молчанием имена ее героических подруг по несчастью, самоотречение и страдания которых были столь же велики, как и ее. Вот эти имена: 1. Княгиня Мария Волконская, урожденная Раевская, которой было тогда 18 лет, она могла бы быть дочерью своего мужа; 2. Г-жа Нарышкина, дочь генерала Коновницына; 3. Г-жа Александра Муравьева, урожденная графиня Чернышева, она умерла в Сибири совсем молодой42; 4. Г-жа Муравьева, урожденная княжна Шаховская; 5. Г-жа Юшневская; 6. Г-жа Муравьева, урожденная Гаринова43; 7. Г-жа Давыдова; 8. Г-жа Ентальцева; 9. Баронесса Розен; 10. Г-жа Анненкова, молодая француженка, которая была модисткой в Москве и пожелала последовать за своим мужем в Сибирь; 11. Г-жа Ивашева44, эльзаска, прежде служившая гувернанткой в семье Ивашевых в Москве, девушка полюбила молодого Ивашева и была любима им, но так как стать его любовницей она не хотела, а быть его женой не могла, Ивашева-мать согласилась отпустить ее домой, во Францию. Когда она узнала о том, что молодой человек осужден, лишен дворянского звания и сослан в Сибирь, она воскликнула: «Вот теперь мы равны, и мать его одобрит наш брак», вернулась в Россию и, получив согласие г-жи Ивашевой на брак, отправилась в Сибирь, где вышла замуж за молодого изгнанника; она родила ему двоих детей и там умерла, как и ее муж. Кажется, его мать сопровождала ее в Сибирь. Я слышала, будто молодая женщина была там холодно встречена и будто Ивашев, чувства которого за это время переменились, женился на ней лишь из чувства долга и чести. По положению каторжника он не имел права жениться, но царь, тронутый преданностью девушки не воспротивился этому браку. Еще две дамы, последовавшие за своими мужьями в изгнание. Со стыдом признаюсь, что забыла их имена, они заслуживают того, чтобы передать их потомству, кажется, одной из была г-жа Фонвизина45. Этот рассказ мой был начат в конце 1861 года в Каннах, потом из-за болезни глаз я прервала его и вернулась к нему лишь весной 1869 года; я вынуждена была диктовать его другу нашего дома м-ль Терезе Стапперс...
Писала и диктовала я без всякого плана, по мере того, как память моя восстанавливала события, не думая о том, что эти строки когда-нибудь могут быть напечатаны. Они предназначаются исключительно для моей семьи; я хочу, чтобы в ней всегда жила память о добродетелях и горестях сестры.
Публикация, предисловие, примечания и перевод В. Павловой, А. Вайнштейн.